Павел Максимович Цапко (1899 г.р.), старший сержант. До войны работал агрономом. 18 августа 1941 года призван в армию, в 7-й запасной стрелковый полк, позже – в 1662-й отдельный батальон 29-й бригады 10-й сапёрной армии, откуда был откомандирован в 1675-й батальон в должности помкомвзвода. К концу войны состоял в штабе 926-го отдельного корпусного сапёрного батальона 4-го гвардейского стрелкового Бранденбургского Краснознамённого корпуса. Участвовал в обороне Кавказа, прорывах на Ингульце и под Ковелем, обороне Днестровского плацдарма, форсировании Вислы и Одера. Был контужен в боях за Берлин. Награждён двумя орденами Красной Звезды, медалью «За оборону Кавказа» и др.
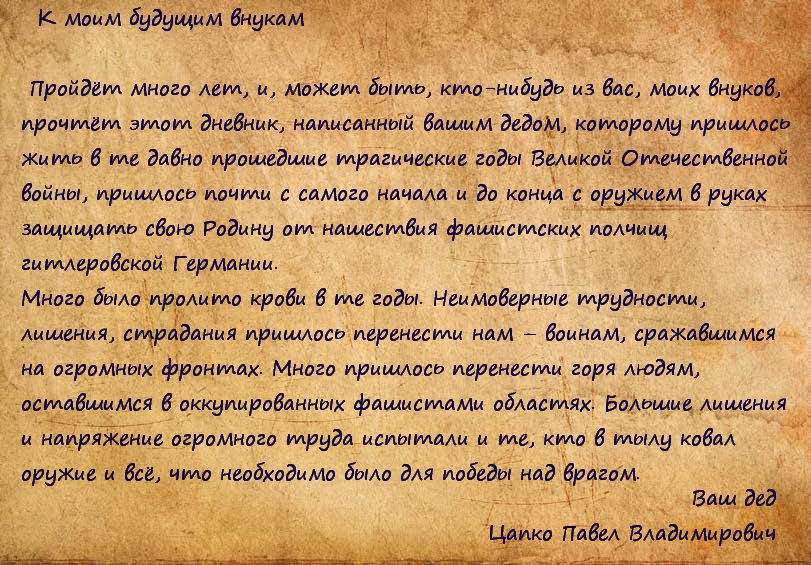
Итак, я – рядовой боец 7-го запасного стрелкового полка. Я, который никогда не служил в армии, к которой, вообще, как к военщине, никогда не имел тяготения и стремления служить, призван теперь правительством, народом защищать свою Родину, свою семью, возможно, придётся пролить свою кровь, а может быть, и отдать свою жизнь даже в ближайшем будущем.
Я разлучился со своей семьей, своими дорогими деточками, разлучился, может быть, надолго, а может быть, и навсегда. Прощанье было так скоро, как будто я уехал в обычную командировку на несколько дней.
Наш полк был размещён в огромном складе хлопкозавода в г. Геническе. Мы должны были здесь сформироваться и отправиться на фронт.
Совершенно новая, незнакомая мне обстановка. На нарах в три этажа, на полу, плечом к плечу лежат люди, собранные из разных областей, со всей страны. Все, как и я, оторваны от своих близких людей, от своих обычных занятий, выбитые из колеи своей жизни.
Здесь тысячи людей! Каждый со своими мыслями, каждый по-разному переживает, но у всех одно общее горе – это навязанная проклятыми немцами война.
Все хорошо знаем, что многие, многие из нас уже никогда не вернутся домой, никогда больше не увидят своей семьи. Гнетущая тоска камнем ложится на сердце… Невольно сжимают спазмы, клубок подкатывается к горлу и слёзы выступают из глаз…
Детки, мои дорогие детки: Котя, Юрочка, Сева. Какие вы ещё маленькие, что с вами будет, какое горе вас ожидает!.. Что с вами, маленькими, может сделать одна ваша мамка, когда придут немцы?! Ведь никто, никто не поможет, не подаст дружбы руку, никто не накормит, не оденет… Бедные детки, что с вами будет…
1 сентября
Подружился с бывшим председателем одного Ново-Воронцовского колхоза, с которым немного и раньше были знакомы, т. Стародубцевым. Он справедливо возмущался беспечностью и неосторожностью нашего командования, разместившего девять тысяч человек в одном сарае.
– Ведь какая прекрасная мишень для фашистского летчика. Что, если шпионы передадут немцам, чем набит сейчас этот сарай. Ведь сколько будет мяса, сколько бессмысленных, ненужных жертв. Не хочу быть убитым по-дурному, не увидев немца. Ведь мы должны хоть по одному немцу убить.
Он, безусловно, был прав. Фашисты каждый день бомбили станцию Новоалексеевку, залетали и в Геническ, но, к счастью, наш сарай не тронули.
Я ему рассказал, как, идя из Запорожья в Геническ, тоже чуть было не «покончил» с войной.
А дело было так.
Шёл я улицей села Васильевки. Напротив, два гусеничных трактора тянули тяжёлые пушки. Вдруг из-за Лысой горы выскочили два самолёта. Летели они так низко, что, наверное, никто не подумал, что они могут быть немецкие. Увидев пушки, они быстро развернулись и начали пикировать на них. Я в это время поровнялся с пушками, но убежать нельзя было, так как в этом месте с одной стороны улицы стояли дома, а с другой тянулась высокая стена.
Я бросился к дому, прижался к земле. Мне показалось, что бомбы летят прямо на меня. Мне стало страшно, решил, что сейчас всё будет кончено. Уткнулся лицом в землю, чтоб не видеть.
Один за другим раздались два взрыва. Что-то навалилось на меня, что-то сильно ударило по ноге, в голове шумит. Но все обошлось благополучно. Одна бомба упала метрах в шести от меня за проходившей пушкой, ранила одного бойца, а меня только оглушила и присыпала землёй, а другая – в угол дома, и куском черепицы сильно зашибло ногу. Бомбы, очевидно, были небольшие.
3 сентября
Сегодня получили полное обмундирование. Ходили в море купаться. Вода очень холодная, но командиры утешали и говорили – привыкайте, придётся ещё и зимой купаться. Свои вещи и одежду отбирали, очевидно, чтобы от них случайно не переползали в новое обмундирование насекомые. Однако я сумел всю свою одежду забрать с собой и отнести к знакомому Зинченко, зашил всё в мешок и просил его, когда будет возможность, отправить Тоне. Положил в этот мешок и новую полотняную рубашку, которую купил в магазине для Коти. Правда, мало верю, что эти вещи когда-нибудь попадут моей семье. А хотелось бы, чтобы попали – всё же неплохой ещё костюм, бельё, ботинки. Пальто оставил в Новоалексеевке у Павлова. Просил и его отправить пальто вместе с письмом.
4 сентября
Фотографировался. Карточки просил Зинченка забрать и отправить жене, если не успеют их приготовить к моему выступлению из Геническа.
Сегодня в торжественной обстановке принимали воинскую присягу.
Какое-то странное чувство охватывало в это время каждого.
Сегодня каждый из нас окончательно перестал принадлежать себе. С сегодняшнего дня я – только боец, который всецело принадлежит Родине, может выполнять только приказания и распоряжения командира. Никакого «я» не может быть.
Ходим на тактические занятия в поле, к берегу моря, маршируем, изучаем, как лучше убивать врага и как надо поступать, чтобы он не убил тебя раньше.
Большинство из нас необученные, не служившие раньше в армии, больше пожилых возрастов. Молодёжь давно уже на фронте или уже перемолота на войне.
5 сентября
Послал письма, телеграммы Тоне в Запорожье и в Григорьевку, в Васильевку Медведю П.М., чтобы тот передал Тоне. Хотелось сообщить, где я. Связь работает плохо. Немцы бомбят поезда, фронт приближается. Мало надежды, что эти письма дойдут.
Продолжаем заниматься. Питание хорошее.
На политзанятиях политрук всё время нас убеждает, что мы обязательно и с радостью должны отдать свою жизнь в предстоящих боях. О том, что мы должны защищать свою Родину, все мы и без его убеждений хорошо знали, а в том, что мы с радостью должны будем отдать свою жизнь, он никак не мог нас убедить.
Ходят упорные слухи, что немцы перешли Днепр, быстро приближаются к Геническу и уже находятся в Ново -Троицком районе.
9 сентября
Получили приказ выступить для дальнейшей подготовки, куда не сказали, но далеко, километров на 700–800 в тыл, причём пешим порядком, походным маршем, так как железной дорогой опасно очень, немцы бомбят все поезда. Скорей же всего и поездов не было, так как надо было много чего эвакуировать в тылы.
Вечером вся дивизия, полк за полком, батальон за батальоном выступили в направлении Мелитополя.
12 сентября
Идём только ночью. Днём нельзя, немец может заметить и разбомбить. Идём быстро, делаем за ночь по 40 км. Остановились в лесу, километрах в семи за Мелитополем. Ночью было видно, как немецкие бомбардировщики бомбили Мелитополь. Видно было, как вспыхивали пожары, как в огне взлетали на воздух дома. Воздух сотрясался от взрывов тяжёлых вражеских бомб. Мы знали, что рядом с нами льётся кровь сотен невинных людей и это было куда лучшей, чем у политрука, агитацией отомстить врагу, не жалея своей жизни.
Было решено сделать днёвку, но последовало распоряжение продолжать марш, и, не отдохнув, мы снова выступили по направлению к Бердянску.
15 сентября
Прошли ночью мимо Бердянска. В город не заходили. Немецкие хищники пролетали так низко, но, видно, нас не заметили – ночи были тёмные, строжайше соблюдали светомаскировку. Запрещали даже курить, а это уж хуже всего.

18 сентября
Пришли в Мариуполь. Днёвка. Пошёл в город, послал письма родным в Чертково. Искал табачку, нигде не было. Возле одного портового закрытого магазина выходила из дверей молодая дамочка и несла в сумочке несколько пачек папирос. Попросил её купить и мне.
– Ладно, – говорит мне, – молодому бы не сделала такого удовольствия, а вам, старичку, уж уступлю одну пачку.
Я поблагодарил её.
На базаре возле киоска стояла очередь за голландским сыром. Я подошёл и себе стал. В военной форме был только я один. Все только и говорили о стремительном наступлении немцев, о приближении фронта к городу, о ежедневном отступлении нашей армии. У всех были озабоченные, злые, как будто бы обречённые уже на новое большое горе, лица. Почти все оборачивались ко мне и с упреком и даже злостью смотрели на меня.
Один пожилой, видно, рабочий, подошёл ко мне.
– До каких же пор вы будете отступать, шкуру свою бережёте. Без боя хотите всю Украину немцу отдать, не стыдно вам, на фронт надо, а не здесь толкаться.
– У него, наверное, ни детей, ни жинки нету, некого защищать, вот и бежит за Дон, думает, там спрячется от немца. Не удерёт, он и там тебя догонит, – со злобой в глазах поддержала старого рабочего растрёпанная женщина с ребёнком на руках.
Я чувствовал, что краска стыда обожгла всё моё лицо. Неужели они считают виновником в надвигающемся несчастии одного меня?! Ведь я такой же, как и они, мирный человек, только пару недель как стал солдатом, ещё не был на фронте, ещё не получил даже оружия.
Они этого не знали.
Но они видели во мне солдата, представителя своей Красной Армии, которая обязана была насмерть стоять, не допустить врага в глубокий тыл, не отдавать на его жестокий произвол все богатства, свои семьи, своих жён, детей…
И в этом они были правы.
Что я мог им сказать в своё оправдание? Сказать, что немцы сильнее нас, лучше вооружены или что мы всё равно разобьём немцев и вернёмся… Всё это было бы неубедительно и не оправдывало отступления.
– Товарищи, – сказал я, – я во всём этом виноват столько же, как и все мы вместе.
Вернувшись в лагерь, я рассказал обо всём Стародубцеву. И он, и я лежали в леску под деревом и долго молчали, углубившись каждый в свои думы.
20 сентября
Идём дальше на Таганрог. Сильно устаём. Ноги подбились, у многих водянки, пузыри. А командиры всё время подгоняют вперёд, требуют равнения.
О! Как это всё с непривычки утомляет, нервирует, злит. Некоторые, пользуясь темнотой, уходят в сторону, отстают и идут потом сзади вольным шагом. И я несколько раз поступал так. Хотя и трудно потом нагонять, но идти вольно лучше. Отдыхаешь когда захочешь и сколько захочешь, а не десять минут, и покурить себе разрешаешь.
Удивительное дело. Как только уходим из какого-нибудь населённого пункта, через несколько часов тот населённый пункт подвергается усиленной бомбёжке. Очевидно, немцам доносили о нашем передвижении, но, к нашему счастью, с опозданием.
21 сентября
Станица Будёновская. Проходим по берегу Азовского моря. Ночь холодная, ветер, сыро. Плещут о берег холодные серые волны.
Переходим границу Украины. Тоска, скорбь охватывает каждого. Вернёмся ли обратно на родную Украину? Увидим ли снова своих близких, родных людей?
Многие плачут…
До свидания, а может быть, прощай навсегда, родная Украина…
25 сентября
Село Дарьевка на реке Миус. В 15 км город Таганрог. Разместились в домиках, приступили снова к обучению. Меня перевели в артиллерийский запасной полк. Встретил Якова Петровича Завгороднего, бывшего агронома из Цюрупинска. Он в чине лейтенанта, командира батареи. Как я теперь жалею, что не служил раньше в армии и не аттестован в средние командиры и приходится тянуть лямку рядового.
Живем неплохо. Купили втроём овцу за 40 рублей у эвакуировавшихся. Дня три вволю кушали хорошее мясо.
29 сентября
Продолжаем усиленно изучать военное искусство. Мне поручили группу бойцов для изучения строевого устава пехоты. Мне это легко удавалось, меня слушали с вниманием и охотой. Я старался понятным, доходчивым языком объяснять материальную часть оружия, теорию полёта пули, снаряда, уход за оружием, приёмы боя, строй и прочее. Объяснял по книжке, заранее, конечно, подготовившись, хотя раньше никогда, кажется, этого устава не видел.
Раз поздно вечером сидели мы вдвоём со Стародубцевым, с которым старался не разлучаться, и о чём-то потихоньку беседовали. В стороне на вязке соломы лежали несколько бойцов и тоже о чём-то вели разговор. Я услыхал свою фамилию.
– Постой, послушаем, о чём они говорят там, – сказал потихоньку Стародубцеву.
Мы прислушались.
– Вскорости после гражданской войны, – начал говорить один боец из моей группы, которому особенно трудно удавалось обучение, – пришёл в наше село один тип, работал плотником. Сказал, что он неграмотный и его заставили ходить в ликбез. И что вы думаете. За неделю он хорошо научился писать и читать, а через месяц писал уже лучше учителя, а ещё через некоторое время учитель сказал, что этот ученик уже всё знает больше меня. И представьте себе, оказалось, что этот плотник был старым офицером. Мне что-то кажется, что наш отделённый кабы тоже не был старым капитаном, а может и выше. Командир роты наш и тот так хорошо не объясняет, как Цапко.
– Да, всё может быть теперь, – сказал другой боец и все замолчали.
Мы со Стародубцевым невольно засмеялись.
– Смотри, Цапко, тебя скоро в полковники произведут.
– Молчи, – сказал я ему, – пусть думают, что хотят, больше будут слушать.
6 октября
Меня и ещё 63 человека старших возрастов вызвали в штаб, а оттуда направили на разъезд, что возле Таганрога. Перед нами была поставлена задача – отправить 130 лошадей и 130 подвод в Ростов и сдать их там в интендантство армии.
Вечером налетели немецкие самолёты. Только начали пить чай – хотелось согреться, как они, проклятые, начали по нам стрелять из пулемётов. Перебежали на другую сторону насыпи, стараясь не разлить чай в котелках, а они и туда залетели. Легко ранен был Федоренко. Потерь не было и чай всё же попили.
11 октября
До Ростова доехали благополучно. В этом городе ещё не приходилось бывать. Приехали в авиагородок, расположенный в двух километрах от города. Лейтенант, который нас сопровождал, куда-то уехал. Мы остались без довольствия и продовольственных аттестатов. Брички и сбрую сдали на склад, а лошадей дано распоряжение сдать колхозам в станице Кагальницкой, в 60 км от Ростова, по ту сторону Дона.
Ехать надо было верхом на лошадях без сёдел 90 километров. Для меня это было хуже, чем идти пешком по 40 километров за ночь. Но приказ есть приказ, его надо выполнять.

13 октября
Вчера днём в Аксае переправились через Дон. В станице скопилось, ожидая по несколько дней очереди на переправу, огромное количество беженцев из многих областей Украины. Все улицы и переулки казачьей станицы были переполнены подводами, машинами, тракторами, всевозможными кибитками, отарами овец, стадами коров, лошадей, свиней. Непрерывный шум, крики, жалобное мычание недоенных коров, плач детей, костры, на которых варят пищу, перебранка с до немоготы уставшим начальником переправы из-за очередей на переправу, измождённые, отупелые взгляды уставших, кажется уже безразличных ко всему беженцев – все это производит удручающее впечатление и тяжёлый неизгладимый осадок на душе.
Сразу за станицей кладбище с длинными рядами свежих могилок. Здесь каждый день десятками хоронят невинных жертв фашистских стервятников, каждый день налетавших на переправу.
В Аксае мы стояли всего часа два, и нас, военных, переправили вне очереди.
15 октября
После продолжительных мытарств по Задонской степи и голодовки доехали в станицу Кагальницкую. Лошадей сдали колхозам. Нас хорошо накормили, и райвоенкомат направил всех поездом обратно в Ростов.
18 октября
Попали на пересыльный пункт. В штабе СКВО нам сказали, что наш полк выступил из-под Таганрога вслед за нами, куда именно не сказали. На наши просьбы направить нас в свой полк нам ответили отказом. Я понял, что навсегда разлучился со своими товарищами, своими земляками.
Немцы заняли Таганрог.
Написал письма родным в Чертково и сестре Вере в Краснодар, адрес которой случайно узнал.
Нас поселили в школе. Работаем по укреплению города.
Немцы рвутся к Ростову.
Команду нашу разбили на несколько групп. Одну из них, в которою попал и я, послали разгружать ростовский арсенал, расположенный в нескольких километрах от города. Работали только ночью, при соблюдении строжайшей светомаскировки, так как немецкие самолёты летали очень низко, нащупывая объекты для бомбёжки. Не было сомнения, что в Ростове были шпионы, которые сообщали врагу всё, что его интересовало.
Огромные бетонные склады со снарядами, с патронами, минами, авиабомбами от нескольких килограмм до тонны и больше весом, надо было в полной темноте переносить в ящиках в вагоны. Это была не только тяжёлая, но и опасная работа. Работая в темноте с тяжёлым грузом, при малейшей неосторожности можно было обронить на цементный пол или на каменные помосты мины или бомбы, что вызвало бы страшной силы взрывы.
Под утро слышно пулемётную стрельбу. Немцы близко. Наспех закрываем двери вагонов, стараемся до рассвета отправить поезд на другую сторону Дона.
20 октября
Встретил земляка из Запорожья, Рувимского. Договорились, что будем стараться быть в одной части.
Собрали в военкомате команду человек 60. Из нашего полка в эту команду попало всего несколько человек, а остальные были все новые для меня люди, часть из них уже побывала на фронте, а большая часть ещё необученные новички. Снабдили на несколько дней продовольствием и направили в город Тихорецк на Кавказ.
22 октября
Тихорецк. Тут недалеко, километрах в шестидесяти по направлению на Краснодар, в станице Кореновской живут сестра Вера, муж её Василий Васильевич, дочь Валечка. Как хочется заехать к ним, как хочется повидать близких дорогих людей! Несколько раз порывался уйти из вагона и первым поездом поехать хоть на час к ним. Всё же побоялся. Ведь могут посчитать дезертиром, а такого позора я не смог бы перенести.
После продолжительной остановки направили дальше в Армавир.

24 октября
Армавир. Сидим на пересыльном пункте третий день. Ходил по городу. Получили направление в город Грозный. На мой вопрос начальнику пересыльного пункта долго ли ещё нас будут возить из города в город, тот ответил, что в Грозном формируются воинские части и нас там уже припишут в какую-нибудь из них.
25 октября
Вот и Кавказ! С правой стороны тянется главный хребет Кавказских гор. Начало осени, здесь ещё тепло, днём даже жарко, а вершины гор белые, в снегах, ледниках. Вот и Казбек. Величественный его купол высоко поднимается за облаками. Сколько было прочитано книг, исторических рассказов, связанных с этими, с детства казавшимися чудесными местами! Много раз мечтал я побывать в этих экзотических уголках нашей Родины. Но никогда и в мыслях не приходило мне, что придётся быть здесь в таких условиях.
26 октября
Город Грозный. Снова эта проклятая пересылка. Скорей бы уже в полк, на фронт, встретиться с оружием в руках с проклятым немцем. Но и здесь, в Грозном, нас ни в какую часть не приписали и снова направили ещё дальше, в город Кизляр Дагестанской автономной области, в 60 километрах от Каспийского моря. Когда же, наконец, кончится это мытарство?
Я подошёл к военкому и сказал, что нас уже давно возят из города в город, что нам уже надоело это, и просил его направить в часть, которая формируется для отправки на фронт.
– Успеете ещё и туда попасть, – сказал он мне в ответ и, засмеявшись, добавил: – А что, вам разве плохо кататься по Кавказу на полном довольствии? И потом, вас тысячи, и что же получилось бы, если б мы направляли каждого туда, куда он хочет?
Он, конечно, был прав.
Правда, надо сказать, что были и такие среди нас, которым это очень нравилось – куда-нибудь, лишь бы подальше от фронта. Но всё же таких было мало.

28 октября
Кизляр. Слышен солёный запах с приморских лиманов. Ночевали в виноградном совхозе. Ходили на базар, много вина. Выпили, конечно. На другой день в военкомате стали отбирать старшие возраста и тех, которые не служили в армии, на строительство новой дороги Кизляр-Астрахань. Я, конечно, тоже попал в это число. Но я решил во что бы то ни стало туда не ехать. Вместе с Рувимским мы решились пойти на хитрость. Когда лейтенант спросил, у кого хороший почерк писать списки, я первый подошёл к нему, и он вручил мне бумагу. Себя, Рувимского и ещё двух приятелей я внёс в списки той команды, которая должна была возвращаться в Грозный, а на наше место записал других. В сумятице, которая тогда была везде, никто на это не обратил никакого внимания, и мы, выпив на дорогу хорошего винца, снова вернулись в Грозный.
1 ноября
Наконец-то мы определились. Нас назначили во вновь сформированную здесь 10-ю сапёрную армию, в 29-ю бригаду. Я с Рувимским попал в формирующийся 1662-й батальон. Батальоны здесь назывались «отдельными», т.е. имели штаты, права, свои печати, свои штабы, материальную часть, как и полки.
4 ноября
Ходили в баню. Получили новое обмундирование. Вместо шинели выдали фуфайки. Мне удалось оставить себе и шинель. Как впоследствии я был этому рад!
Я знал, что в сапёрной части придётся много и тяжело работать, и при моём неважном здоровье мне совсем не нравился этот род войск и перспективы служить в них. Но мне, можно сказать, повезло – меня назначили старшим писарем батальона по строевой части.
Начался новый этап моей службы в армии, в сапёрной части.
9 ноября
Сегодня батальон выступил из Грозного походным порядком в чеченский аул Семашки, километрах в 50 от Грозного. Ночуем в огромном благоустроенном зерносовхозе №15. Пошёл искать кипятку для чайника. Мне говорят: «Кипятку у нас сколько угодно из земли течёт». Я сразу не поверил и только потом убедился, когда открыл кран колонки и оттуда потекла фонтаном горячая, как кипяток, вода. Вода мягкая, очень приятная на вкус. Утром возле крана в корыте я постирал своё бельё, предполагая, что таких прекрасных условий для этого дела вряд ли скоро придётся иметь.
10 ноября
Перевалили через Терский хребет. С непривычки ходить по горам он показался нам довольно высоким.
Ночью прибыли в Семашки. Это, по сути, не аул, а станица. Раньше здесь жили терские казаки, но потом за восстание против советской власти их выселили отсюда и заселили чеченцами с гор. Население исключительно чеченцы.
5 декабря
Уже около месяца живем в Семашках. Наш батальон работает на «трассе», т.е. копают противотанковые рвы. Работают много, с раннего утра до позднего вечера. Работа очень тяжёлая, т.к. приходится копать не только грунт, но и долбать кирками камень. К моему счастью, я избавлен от этого, но у меня в штабе тоже много работы. По 16–17 часов в день бывает часто не выходишь из-за стола. Кто не работал на этой должности, тот, конечно, не представляет, сколько здесь всякой бумажной волокиты. В батальоне 500 человек, 33 человека среднего командного состава. Почти каждый день большая текучесть, некоторых откомандировывают в другие части, другие прибывают; одних надо отправить в госпиталь по болезни, другие возвращаются оттуда, и всех надо оформлять приказами, записывать и выписывать из списков личного состава. Каждый день надо давать сведения о наличии состава людей по занимаемым должностям и званию в штаб бригады, в хозчасть на довольствие, писать характеристики, сведения о чрезвычайных происшествиях, о проделанной за день работе, чертить схемы и ещё многое другое. Надо сказать, что в армии в военное время некоторые недобросовестные командиры сваливают свою работу на меньших.
Мой товарищ, писарь МТО Елисей Ефимович Чмыхало, казак из кубанской станицы, стал хорошим моим другом. С ним мы всё делили пополам – и горе, и радости, последних, правда, было не так уж много.
Командир батальона капитан Паницков, бывший начальник милиции города Грозного, мало бывает в штабе, большей частью сидит на своей квартире и пьёт. Человек неразговорчивый – ничего хорошего, но и ничего плохого от него не услышишь.
Начальник штаба капитан Фёдор Фёдорович Серов, огромного роста детина, до войны был секретарём парторганизации ростовской табачной фабрики. Весельчак, любил рассказывать анекдоты и очень много любил пить, всё время почти на трассе, и в штабе фактически руководил всеми делами адъютант Лукин.
В противоположность двум первым командирам – это был молодой выскочка, задавака, грубиян, держал себя возмутительно. Часто напьётся и начинает совершенно незаслуженно допекать, ругаться отборными словами. Идиот и негодяй – это самые подходящие эпитеты, которые он только заслуживает.
Прочитав как-то в дневнике мою характеристику Лукина, Чмыхало не выдержал и, подойдя ко мне, со страхом в глазах сказал:
– Да как у тебя смелости хватило написать об этой сволочи такие слова! Ведь он тебя сгноит на гауптвахте, если попадёт ему в руки твой дневник!
– Чёрт с ним, – ответил ему. – Во-первых, дневник я ношу всегда в кармане, а если ночью и полезет шарить по карманам и найдёт, то наибольшее – это переведут в роту работать на трассе, а это, пожалуй, лучше, чем терять своё достоинство и самолюбие от этого говнюка. Попасть бы скорее на фронт, а там он запоёт другим голосом.
Но, конечно, приходилось терпеть, жаловаться в армии не положено, и, в конце концов, мы просто перестали обращать внимание на выходки этого дурачка.
10 декабря
Часто наседала тоска за детьми, за всеми родными. Если бы они знали, как я скучаю за ними! Где они – Котя, Сева, моя крошка Юрочка?.. Что с вами теперь? Кто вас напоит, накормит у проклятого немца? Может быть, вас уже и на свете нету?..
Писал письма Вере, папе, маме. Ответа никакого нет. Как я завидую тем, кто часто получает письма от своих родных.

14 декабря
Сегодня как-то меньше работы. День был тихий, ясный и морозный. С веранды дома, где помещался штаб, открывается прекрасный вид на главный хребет кавказских гор.
До горы Казбек, говорят, около 60 километров, но он весь как на ладони. Среди длинной цепи выделяется его круглая величественная вершина. Видны все его складки, все ущелья, ледники и даже отдельные крупные скалы. Каждый день, когда стоит ясная погода, я выхожу на веранду и любуюсь им. И когда восходит солнце, освещается сразу его вершина, потом тени спускаются всё ниже и ниже, и только минут через 15–20 освещаются все горы. Розовым, голубым, оранжевым – всеми цветами радуги блестят вечные снега и ледники. Наконец, на горизонте показывается солнце. Какая бесподобная красота!
И вот среди этой вечной красоты, воспетой Пушкиным, Лермонтовым их правнукам приходится, напрягая все силы, рыть рвы, окопы, делать доты, чтобы потом встретить в них жёстокого врага, не допустить его дальше, а эти окопы и рвы сделать ему могилой.
16 декабря
Сегодня я очень счастлив. Наконец я получил письмо от Веры. Я узнал и о папе, маме, Оле, их детях, т.к. они переписываются с сестрой. Вера пишет, что от её зятя Миши получила только одно письмо.
Написал ей ответное письмо, написал родным в Чертково. Может быть, удастся-таки наладить связь и с Чертково.
18 декабря
Уже больше месяца живём в Семашках. Мы, три писаря, нашли себе комнатку у чечен, рядом со штабом. Живем неплохо. Пища удовлетворительная. Кроме того, для батальона выдают спирт. Понятно, что пьют, главным образом, командиры, но мы имеем «блат» у каптенармуса, поэтому время от времени достаётся по литру, а то и больше, и нам. Вечером после работы выпьем, закусим огурцом, картошкой, затянем украинскую песню, вспоминаем своих близких людей, события прошлой жизни, мирные годы. Бывало, напоим своих квартирохозяев-чеченцев. Те падки на выпивку, хотя закон Магомета и запрещает им спиртное. Выпьют и начинают танцевать лезгинку, шамиля, поют свои своеобразные дикие песни.
В армию их не берут. Пробовали, формировали из них целые эскадроны, но они потом все с оружием в руках удирали в горы, нападали на наши заставы и отдельных военных, убивали, а оружие забирали себе. Для борьбы с этими бандами пришлось даже применять артиллерию и авиацию. Но бороться с ними в горах было делом совершенно бесполезным. У чеченцев сохранились свои старые обычаи и порядки, свои семейные устои, и они свято их придерживаются. По-русски мужчины понимали плохо, женщины же совсем не понимали…
20 декабря
Получил письмо от Веры и сто рублей денег. Я ей очень благодарен, что беспокоилась за меня, будет на табачок, хотя ей и не надо было этого делать, и я просил больше ничего не высылать, я всегда обойдусь, а им там больше нужно.
Получили приказ выехать батальону в Минеральные Воды. Вышли в село Сухая Падина, километрах в 20 за городом. Когда взошли на возвышенность, перед взором обрисовался красивый вид на город, на окружающие его с южной стороны горы Бештау, Змейку, Машук, Кинжал-Гора. Вдали виднелся Пятигорск.
29 декабря
Село Сухая Падина небольшое. Штаб поместился в школе, а хаты жителей битком набиты сапёрами и рабочими батальонами. Батальон снова работает на трассе.
Достал полбуханки белого хлеба. Давно уже не видели такого.
Погода стоит необычно холодная. Сильные морозы, почти каждый день бураны, метели, но работы по строительству укреплений не прекращаются ни на один день. Люди выбиваются из сил, многие болеют.
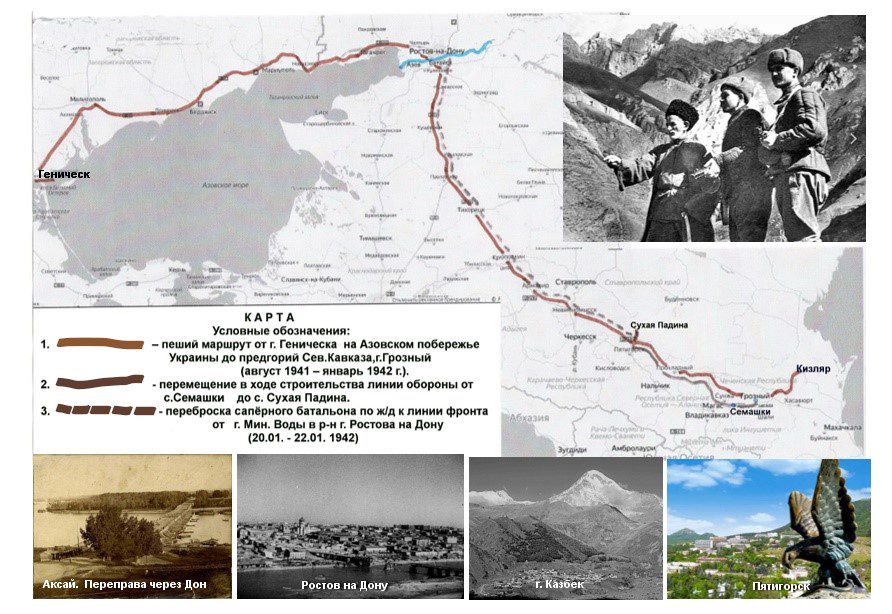
1 9 4 2 ГОД
1 января
Неожиданно встретил в рабочем батальоне своего земляка Андрея Андреевича Михольского, заместителя председателя колхоза им. Ильича в селе Беленьком. Были очень рады этой встрече. По этому случаю он достал четверть вина, а я пол-литра – спирта и селёдку, и по-дружески с товарищами выпили, вспомнили свои далёкие родные места и сравнивали их с неприветливым Кавказом. Он эвакуировался в Арагирский район вместе с председателем колхоза Коваленко и огородником И.С. Ковалем. В армию их пока не брали из-за плохого состояния здоровья, и он работает в рабочем батальоне.
10 января
Получили приказ выступить в хутор Любительский за станцией Суворовской, в 25 километрах на запад от Минеральных Вод.
Стояла тихая, ясная погода. За Минводами с возвышенности увидели гору Эльбрус. Отсюда она километрах в 150-ти, но отчётливо видна за другими вершинами гор его двуглавая белая вершина.
15 января
Как я рад каждому её письму. И как я рад был бы, если хоть пару слов узнал о своей семье, о своих детках. Если бы узнать, что они живы, здоровы, не голодают, сколько было бы у меня радости. Но это только одно несбыточное желание, которое не может быть осуществлено до тех пор, пока враг не будет разбит и выгнан с нашей земли. Всё больше и больше скучаю за детьми.
17 января
Ездил поездом в Минеральные Воды в баню с некоторыми товарищами.
Из Вериного письма узнал адрес старого сослуживца по лесничеству Олифиренко. Он имеет домик в 20 километрах за Минеральными Водами по линии железной дороги на Пятигорск. После бани решил поехать к нему. Туда ходят электрические поезда каждый час.
Приехал на эту станцию уже ночью. Домик, где он жил, нашёл, но его уже там не было. Он переехал в Пятигорск. Адрес его никто не знает. Очень жаль, но пришлось возвращаться обратно.
20 января
Новый приказ. Мы выезжаем на этот раз уже на фронт! Да и пора уже, сколько можно уже быть в тылу. Если на фронт – значит ближе к дому, ближе к родным местам, я очень рад, да и большинство с удовлетворением восприняли этот приказ.

22 января
Выгрузились из вагонов в Ростове на станции Нахичевань. Не так давно здесь хозяйничали немцы, но недолго. Их выбили и отогнали, и фронт установился между Ростовом и Таганрогом по реке Миус, Самбек.
23 января
Остановились в с. Несветай, километрах в 30 от Ростова. Здесь будем строить линию обороны вокруг Ростова. Сильный мороз, метели. Условия тяжёлые, топить нечем, скученность огромная. В комнате, где разместился штаб и где мы жили, пятый день не растает лёд.
1 февраля
Перебрались в село Большие Салы. Население – армяне. Жили раньше хорошо. Теперь многие дома разбиты. В маленькой комнатушке размещается 15–20 человек. Морозы, вьюги всё время. Я, Чмыхало и писарь Кравченко живем в штабе. Достали с трудом немного угля. Жить стало лучше.
15 февраля
Получил посылочку от Веры. Прислала немножко масла, сала кусочек, полотенце, коржиков. Был очень рад. Спасибо тебе, сестричка. Ходили в Ростов в баню. Мороз был чертовский. Ветер сбивал с ног. Многие обморозили уши, щёки. Проклинали эту баню. Стал получать письма от мамы, папы, Оли. Часто пишу им. Теперь у меня уже связь со всеми родными, кроме… своей семьи, своих деток. Всё больше и больше скучаю за ними. Часто вижу во сне Котю, Юрочку, а Севу только один раз. Где вы, мои дорогие?..
1 марта
Продолжаем работу, строим доты, дзоты, устанавливаем минные поля. Работать очень тяжело. До рубежа и обратно надо пройти 20 километров при лютом морозе. Ну и проклятый же климат в этой области: холод, мороз, ветер, открытая степь. В богатом селе даже вишенки нет. Топить нечем. Люди приходят с работы перемёрзшие, усталые, а обогреться негде. Одеты плохо, шинелей нет, в одних фуфайках, ботинках.
Получил два письма от Михольского из Арагирского района. Он ещё там. Пишет, если меня ранят, то чтобы на лечение к нему приезжал.
Фронт недалеко. Часто слышна сильная артиллерийская и миномётная перестрелка. Нас всё же никто не беспокоит. Мы стоим пока во втором эшелоне.
Многих бойцов и командиров отправили в другие части.
15 марта
Лютая зима продолжается с неослабной силой. Чёрт знает, когда же она кончится здесь, как она уже надоела. Большинство в батальоне людей с Кавказа, Закавказья, привыкли к теплу и переносят её особенно болезненно.
16 марта
Получен приказ о расформировании батальона. Дело неважно. Куда же нас теперь направят?
Узнал, что меня откомандировывают в 1675-й батальон помкомвзвода, а Елисея туда же командиром отделения. Мы рады, что хоть в одну часть.
Я остался в батальоне ещё на шесть дней для ликвидации штабных дел.
25 марта
Поехали с начальником штаба капитаном Фёдоровым в Ростов в штаб бригады сдавать дела.
26 марта
Дела всё не принимают, особенно секретную часть. Два раза переделывал оформление. Бюрократы ужасные.
Сегодня у меня большое горе.
В столовой, куда я ходил обедать, в сутолоке вытащили у меня из кармана бумажник со всеми документами, а самое главное фотокарточки детей, Тони. Такая обида! Самого дорогого лишился, что у меня осталось. Вытащили последние 60 рублей денег. Спасибо только начальнику штаба Фёдору Фёдоровичу, он меня поддерживал.
29 марта
Наконец-таки дела сдал, свободен, живу у Фёдора Фёдоровича, он ведь сам ростовчанин. Много пьёт, играет хорошо на баяне. Как-то выпивши обнял и поцеловал меня. Маленькая племянница его увидела это и говорит ему:
– Дядя, чего вы его целуете?
– Как же мне его не поцеловать,– говорит он, – когда Павел Максимович девяносто процентов моей работы делал в штабе.
И это была правда.
Просил разрешения поехать в Чертково, хоть на один день к родным, но ожидалось выступление батальона в другое место и меня не отпустили.
1 апреля
Приехал в новую часть. Люди показались куда хуже, чем были в нашем батальоне.
Приступил к новым своим обязанностям. Работать приходится наравне с рядовыми сапёрами. Зима продолжается. Сильно уставал физически, перемерзал. Как теперь рад был, что шинель у меня осталась, а то в фуфайке не выдержал бы.
20 апреля.
Потеплело наконец. Снег растаял. Получили приказ выступить в Донбасс.
25 апреля
Грязь непролазная. Каждую бричку обоза то и дело приходится вытаскивать из болота. Прошли километров 100 уже. Сильно утомились. На горизонте видны уже шахты. Мы вступили в Донбасс.
27 апреля
Прошли городок Ровеньки. Остановились на шахте Перецепино, возле Михайловки, километрах в 50 на запад от Ворошиловграда. Фронт здесь близко. Видны шахты, где укрепился немец.
12 мая
Май месяц, но ещё холодно. Получили большое задание – создать укрепрайон. Работали по 16 часов в сутки, почти без отдыха и, конечно, без выходных. Работали все, даже командиры рот и взводов.
Сверху мягкий грунт всего на полметра, а потом на два метра камень. Долбить приходится только ломом и киркой. Питание плохое, выбиваемся из сил. Работаем дотемна, а потом, как пьяные, еле передвигая ногами, идём в бывшие общежития шахтёров. Свалившись, сразу же засыпаем. У меня от сильного перенапряжения два раза опухали руки. Спасибо врачу, на два дня давал освобождение. Все исхудали. У меня самого остались кожа да кости. А работу требуют, всё время подгоняют.
1 июня
Перебрались в с. Самсоновку. Продолжаем делать укрепления. Тепло, живём в роще, в шалашах из веток.
Здесь дальше от фронта, даже не слышно орудий. Получил письмо от мамы, пишет, что хочет приехать ко мне, что соскучилась.
Дорогая мамочка! Я тоже сильно соскучился за всеми вами, но вам на старости будет трудно добраться сюда…
20 июня
Переехали в с. Ново-Николаевку, опять почти к фронту. Снова укрепляем, снова работа с раннего утра до позднего вечера. Как она уже надоела! Почти каждый просимся, чтобы отправили в стрелковую часть на фронт.
Сколько перерыто земли, сколько вынуто камня! Сколько поделали прекрасных, неприступных дотов, дзотов, минированных полей, проволочных заграждений! Неужели здесь может пройти враг? Нет, никогда!
23 июня
Меня зачислили химинструктором в 3-ю роту с положенным окладом 150 рублей. Начальник химслужбы никаких указаний не даёт. Продолжаю минировать поля, а по химделу ничего не делаю.
Бои идут близко. Ходят слухи о прорыве немцами фронта на Донце. Началось летнее наступление немцев. Но на этом рубеже они должны сломать себе голову. Так все мы думаем.
6 июля
Стоит жаркая погода, но ещё жарче идёт работа. Немцы начали наступление на Воронеж, оттуда на юг, по линии железной дороги. Значит, не так уже далеко от Чертково, где живут мои родные.

9 июля
Получили приказ выступить на станцию Чертково, отсюда километров 150. Погрузились в вагон.
Сколько радости у меня! Значит, завтра буду у родных. Увижу всех. Сколько лет ведь не видел!
Как же мы встретимся? Мама будет плакать, Зоечка будет целовать меня и говорить:
– Дядичка! Який вы сталы?..
Сколько радости будет.
Едем. А сердце чего-то тревожно бьётся в груди…
Почему-то эшелон долго стоит на стациях. Злит это меня.
Переезжаем через Северный Донец. Через 50 километров ст. Миллерово, а там уже близко и Чертково. А по прямой всего 60–70 километров.
10 июля
Поезд стоит на станции. Двигаемся обратно. Опять стоим несколько часов. Эшелон дальше не идёт… Ехать нельзя… Поздно… Телеграмма – «Чертково занято немцами». На Миллерово пути разрушены…
Возвращаемся снова на станцию Семейкино, где погружались. Рухнули все надежды на встречу с родными и теперь, видно, надолго, если не навсегда…
Какая обида, какая досада… Всегда так получается, когда надеешься, ждёшь, никогда по-твоему не бывает.
Вернулись на ст. Семейкино. Сутки сидим в вагонах. Налетели немецкие самолёты, сбросили с десяток бомб. Большинство выскакивало из вагонов уже во время бомбёжки. Одна бомба попала в соседний с нашим вагон. Всего во время налёта убило четверых и одиннадцать человек ранило. Убитых тут же за станцией и похоронили.
11 июля
Ехать поездом дальше нельзя – некуда. Получили приказ – походным порядком двигаться на юго-восток. Куда – никто не знает. А немец нажимает. Идём ночами, днём нельзя.
12 июля
Проходим городок Краснодон. Двигаемся дальше на восток. Каждые сутки, вернее, за ночь, надо пройти 50–60 километров. Как это невероятно тяжело!..
14 июля
Узнаём, что все укрепления, которые мы с таким упорством, с таким колоссальным трудом построили, где пролили столько пота, где каждый из нас подорвал свои силы и здоровье, отдали немцам без боя. Немцы просто обошли этот укрепрайон. Какая обида…
Враг наступал по пятам. Утром остановились передохнуть. Кругом как в плавнях – редкий кустарник, отдельные стоят вербы, высокая трава. Я отошёл немного в сторону от дороги, лёг в мягкую траву и заснул как убитый. Проснулся – никого нету. Сколько я спал, не знаю, вижу только, что солнце поднялось уже высоко. Я быстро пошёл по дороге. Прошёл с полкилометра и мне показалось, что мы уже здесь проходили. Пошёл дальше, снова вижу обгорелое дерево и колоду, которые встретились нам по пути. Сомнения не было – я спросонья пошёл в обратную сторону. Чтобы окончательно убедиться, прошёл ещё минут пять. Вдруг вижу: метрах в трёхстах, немного в стороне, медленно движутся две танкетки. Я присмотрелся и ясно заметил фашистские кресты. Возможность попасть по своей глупости прямо в лапы врага, не имея возможности защищаться, привела меня в ужас. Прячась за кустами, я что есть силы побежал обратно. Счастье моё, что среди кустарника с танкеток не заметили меня. Я бежал часа два или три, пока не нагнал батальон.
– Скажите, товарищ лейтенант, – обратился я к командиру роты, – есть ли за нами ещё какие-либо части или мы отступаем последними?
– А зачем тебе это?
Я ему откровенно рассказал, что со мной случилось.
– В том-то и дело, что нет. Нам это известно, чего и спешим, как загнанные зайцы, а вам советую, чтобы больше не отставали от батальона.
Проходим г. Каменск и переходим по мосту Северный Донец. Вражеские самолёты беспрерывно бомбят. В городе кругом разрушения, пылают пожары, кругом трупы, без ног, без головы… Стараемся прятаться, где можно, от бомб.
Уже шестой день не получаем хлеба. Дают в сутки по селёдке и 200 сухарей.
Голодные, утомлённые большими переходами, морально разбитые, движемся к Дону.
15 июля
Проходим ст. Грачи по линии Лихая – Сталинград. Останавливаемся в хуторе Дядино.
Только расположились – прилетели три немецких самолёта, заметив нас, снизились и начали бомбить. Минут 30 сбрасывали бомбы и обстреливали пулемётами. Попалось больше всего обозу. Побило много лошадей. Убито пять сапёров, многих ранило. Ранен командир роты Прасолов. Похоронив убитых, двинулись дальше.
16 июля
Продолжаем путь. Впереди артиллерийская стрельба: оказывается, немцы высадили десант и начали обстреливать нашу дорогу из тяжёлых миномётов. Мы почти в окружении. Остановились. Обиднее всего, что у нас почти нет никакого оружия, нечем защищаться. К счастью, где-то подошли наши танки, десант часть перебили, а человек 30 сдались в плен.
Немецкие самолёты беспрерывно налетают и бомбят дорогу, по которой мы отступаем. А наших ни одного нету. Где же они подевались?..
17 июля
Устали, ноги подбились, и их еле волочишь, хлеба нигде не достанешь.
Близко Дон.
Часть бойцов растеряли. Пропал целый взвод. Двигаемся разрозненно, отдельными группами, чтобы уменьшить потери от бомбёжек. Немец наступает по пятам, движется на машинах, танках.
18 июля
Гойхман нашёл в одном доме беспризорную муку. Забрали, где-нибудь сварим галушки.
Вечером приходим в станицу Баски. Сколько глазом не окинешь – везде высокий бурьян. Засеянных полей почти нет. Хлеба здесь не будет. Немцу мало достанется, да и население будет голодать.
До станицы Константиновской, где должны переправляться через Дон, осталось 35 километров.
Часов в 10 вечера встретили ехавшего на автомашине командира бригады, подполковника Бочарова.
– Если до утра дойдёте до Константиновки, – сказал он нам, – идите, а не успеете – попадёте в руки немца.
Конечно, за 5 часов уставшие до предела, измученные, голодные мы пройти ещё 35 километров уже не могли. Повернули на юг, единственная оставшаяся дорога, пока свободная от немцев.
К утру снова перешли Северный Донец, недалеко от впадения его в Дон.

19 июля
Остановились в казацкой станице. Отдохнули днём. Достали картошки, немного хлеба, подкрепились. Идём взводом. Где другие взводы и роты не знаем, позади или впереди нас.
20 июля
Утром подошли к Дону. Вот он, «тихий Дон»! Но не тихий он сейчас. Здесь на переправе громадное скопление воинских частей, машин, обозов, беженцев, скота. Переправляются на паромах день и ночь в пяти местах. Всё время налетают неприятельские самолёты, бомбят, наводят панику.
У всех одна мысль – скорей бы через Дон, не попасть немцу в руки. Надеялись, что за Доном находятся свежие войска, которые не пропустят его через реку.
Дал на всякий случай Чмыхало свой адрес, он мне – свой. Во время переправы хотели с ним искупаться в Дону, но очередной налёт немецких самолётов не дал. Освежились уже после переправы в притоке Дона.
21 июля
Идём дальше Задонскими степями. Меняем несколько раз направление, немецкие десанты пересекают нам путь. Думали, остановимся за Доном, думали, здесь будет оборона, но не так оно вышло.
Идём в самом арьергарде. Позади уже нет действующих частей. Позади по пятам наступает немец. Уже перешёл Дон, занял Константиновку. Сколько там осталось машин, снаряжения, продовольствия! А сколько пошло на дно Дона!..
Когда же, в конце концов, прекратится это отступление, эта ужасная трагедия?
22 июля
Степь. Прошли сегодня 72 километра. Гимнастёрки мокрые от пота и серые от пыли. Такие же серые, измученные лица.
Остановились в одном хуторе.
Комбат Савенко посылает меня с прикомандированным от политотдела бригады старшим политруком Коневским вперёд за 50–60 километров в село Большую Орловку установить связь со штабом армии.
Коневский сам харковчанин, говорит по-украински со мной, и нам обоим было приятно беседовать на разные темы на родном языке. Человек очень симпатичный, вежливый, совсем не похож на наших командиров, многие из которых совсем малограмотны и уже в войну, может даже и случайно, аттестованы в средний комсостав и обычно держали себя заносчиво.
Шли мы долго. Машин попутных не попадалось, так как шли просёлочными дорогами.
К вечеру подошли к калмыцкому хутору. Жило там несколько семей калмыков, которые недавно пасли огромные табуны конесовхоза.
У одной калмычки я за два полотенца, правда плохоньких, выменял петуха и кусок хлеба. Вечером попали в один совхоз, где одна женщина сварила нам хороший суп из петуха, добавив в него своего пшена. С большим удовольствием и огромным аппетитом мы опорожнили огромную кастрюлю вкусного супа. Варёного же петуха положили в сумку и решили им позавтракать.
В направлении Б. Орловки двигался один из батальонов, и, хотя я возражал, Коневский настоял идти вместе с ним.
Часов в 12 ночи легли на привал минут на 30. Все моментально уснули. Сумку с петухом я положил рядом. Ночь была тёмная.
Как только батальон поднялся продолжать марш, я быстро вскочил, надел вещевой мешок и пошёл с Коневским дальше. Шли быстро. Пройдя километра 3–4, я вспомнил про мешок с петухом. Я решил, что забыл его и просил Коневского вернуться за ним. Коневский тоже очень огорчился такому случаю, но согласия не дал. Все же я, хоть и самовольно, пользуясь темнотой, отстал и быстро пошёл обратно за петухом. Подошёл к тому месту, где спал, долго искал, перепортив на это коробку спичек, но тщетны были мои поиски. Сумки с петухом нигде не было. Я тогда вспомнил, что не взял её, потому что не заметил её. Сумку, безусловно, сперли елдаши из батальона, когда мы спали, а на это они были исключительные мастера. Не было слов выразить моё огорчение. Ведь мы так предвкушали покушать молодого петушиного мяса! С досады я лёг и спал до самого рассвета.
Проснувшись, я представил, сколько километров мне придется догонять теперь Коневского!
Быстро пошёл вперёд. Догнал недалеко, километров за 15. Батальон, оказалось, лёг поспать, и это дало мне возможность его догнать.
Так печально окончилась история с калмыцким петухом.
24 июля. ГИБЕЛЬ БАТАЛЬОНА.
Утром я и взвод Верховодова, в количестве всего одиннадцати человек, проснулись в саду села Малая Орловка, но рядом стоявшего нашего обоза не нашли – куда-то уехал ночью. Где наш батальон мы точно не знали и решили идти вперёд, купив предварительно у крестьян хлеба и пшена.
Прошли километра три, слышим – в М. Орловке сильная артиллерийская и пулемётная стрельба, продолжавшаяся с полчаса. Пошли быстрее. Остановились в одном селе, с тревогой ожидая встретить кого-нибудь из своего батальона. Видим, быстро догоняем наш обоз. Командир роты приказал нам садиться на подводы, хотя на подводах уже сидело человек по пять-шесть, чего никогда не было.
– Куда ушли, где были? – спрашивает комиссар Задорожный.
Я рассказал ему.
– Вам повезло, вот что осталось от батальона, указывая на пару десятков подвод с сидевшими на них сапёрами. Из 430 человек осталось 122.
Рассказал, что наш батальон остановился завтракать в роще возле с. М. Орловка. В это время неприятельский танковый отряд окружил рощу и прямой наводкой из орудий и пулемётным огнём начал расстреливать невооружённых людей… Ушли немногие, часть из комсостава, более крепкие и помоложе, а скорей всего, кому посчастливилось.
Погиб командир батальона Савенко. Не стало моих товарищей. Погиб мой друг Чмыхало. Он не убежал, не бросил своё отделение, и это его погубило. Прощайте, дорогие друзья, товарищи…
Обоз в то время находился отдельно, переехал в соседний хутор и избежал окружения.
В батальоне теперь остались, главным образом, только те, что были в обозе: калеки, симулянты, елдаши и несколько убежавших из рот.
Движемся день и ночь дальше. Кругом немцы. Так хочется вырваться из окружения…
26 июля
Расположились отдохнуть возле богатейшего конного завода. Это целый институт коневодства.
27 июля
Проходим Манычский канал. На карте он большой, а, по-моему, на нём и баржи не пройдут. Говорят, зато в нём очень много рыбы.
29 июля
Город Сальск, стоим на отдыхе. Имели направление на Сталинград. Отсюда почему-то повернули на Будённовск, т.е. на Кавказ. Ничего не купишь. Хлеба по-прежнему не дают, нету. Получаем в сутки всего 300 грамм чёрных сухарей выпуска 1940 года.
Начались сальские степи, а потом пойдет Калмыцкая АССР.
1 августа
Проходим калмыцкую степь. Тихо. Жара невыносимая. Кругом, куда ни глянешь, одна полынь да изредка солёные озера. Идти тяжело, во рту пересохло, мучает жажда, но пресной воды нигде нет. С нетерпением ждём ночи, но ночью тоже надо идти. Нет больше сил, ноги подкашиваются, кружится голова. Многие не выдерживают, падают. А впереди всё голая степь, почти пустыня… Когда же ей будет конец?..
4 августа
Наконец степь прошли. Орджоникидзевский край. Ночуем в с. Дивное. Утром проходим одно село. Здесь ещё не видели армии. Кстати сказать, с остатками нашего батальона отступало ещё несколько уцелевших частей. Население зажиточное, кушают белый хлеб. Когда мы подходили к селу, население встретило нас возле села. Угощают свежим белым хлебом, молоком, принесли борщ, яички. После такой голодовки просто не верится, что на свете ещё есть такие прекрасные вещи.
Поблагодарили, отдохнули, идём дальше.
5 августа
Остановились на день в одном селе. Население – русские и украинцы, которые называют себя «хохлами». Хозяйка, у которой мы остановились, сварила нам вареников с сыром. Вот уж благодарили её. До чего же вкусные были. Ели, ели и жалко было с ними расставаться.
8 августа
Проходим город Будённовск, станицу Привольную. Богатейшая прикумская долина, вся в садах, виноградниках, огородах. Попал на винный склад. Много бочек уже разбито, и вино течёт ручьём. Выпил, сколько мог, налил две фляги и полный котелок. Иду, правда, уже некрепко передвигая ногами. Встретил ехавшего на лошади комиссара.
– Ты что, Цапко, несёшь?
– Чай, товарищ комиссар, – ответил ему.
– Дай-ка немного хлебнуть, пить хочется.
Поднёс ему котелок. Попробовал, устремил на меня глаза, как на зверя, но продолжал пить, видно, с большим удовольствием. Потом передал ехавшему с ним рядом адъютанту.
– Выпей и ты немного чайку.
Тот выпил и оба рассмеялись.
– Где достал? – спросил меня.
– Здесь вот рядом, – ответил ему.
– Надо послать старшину,– обратился к адъютанту, – пусть возьмёт бочки две-три.
Вино, что принёс, выпил командир роты, а мне за самовольную отлучку и возвращение в не совсем трезвом виде обещали пять суток ареста, с отбытием приговора после войны.
11 августа
Проходим город Моздок. До Грозного, куда мы направляемся, осталось 120 километров. Приближается конец нашего похода.
Сегодня месяц, как мы вышли со станции Семейкино.
Моздок весь в садах, виноградниках. К большому сожалению, виноград ещё зелёный. Переходим реку Терек по очень красивому мосту. Мост уже заминирован. С наслаждением купаемся в Тереке. Вода течёт с гор мутная, холодная. Течение очень быстрое, сносит моментально далеко по течению.
Вечером дезертировали два осетина. Сволочи, притворялись всю дорогу больными, ехали на подводе.
Остался с политруком разыскивать. Напрасный труд. Легли в саду под деревом, а утром догнали батальон на попутной машине.
12 августа
Прошли город Малгобек. Только здесь в горах увидели уже оборонительный рубеж, занятый войсками. Много пушек, пулемётов.
13 августа
Подошли к Грозному. Остановились на ночлег возле города. В этом городе формировался наш батальон, поэтому в батальоне много грозненских. Но домой отпустили только нескольких человек. Весть о прибытии батальона быстро разнеслась по городу, и к нам стали приходить родные, приносили подарки. Радость у людей, что остались живы, и слёзы и рыдания у тех, чьи кормильцы не дошли до родного города.
14 августа
Прошли в сторону ещё 50 километров. Остановились в чеченском ауле Курчалое. Это районный центр, расположенный в широкой долине между горами. По улицам текут арыки, как и везде в этих местах. В огородах много деревьев: слива, дикая груша, орех. Поражает своей высотой кукуруза. Это основная культура, и мука из неё – основной продукт питания чечен.
Расположились в клубе. Немного есть денег, и я вместе со старшим писарем батальона, замечательным парнем, хорошим товарищем Дудченко по случаю благополучного окончания большого похода (читай бегства) выпили по бутылке хорошего вина.
15 августа
Пришло пополнение, и получили большое задание по строительству круговой обороны вокруг Грозного, этого важнейшего центра нефтяной промышленности. Снова лопата, кирка, ломы, снова окопы, доты, дзоты, эскарпы, контрэскарпы, пулемётные гнёзда, снова до невозможности тяжёлая работа.
18 августа
Сегодня исполнился ровно год с того дня, когда я без повестки, без «приглашения» пришёл на мобилизационный пункт в Григорьевске и стал солдатом Красной Армии.
Сколько пережито за этот тяжёлый год!
Я тогда не думал, что буду жить ещё целый год; не думал, что придётся исколесить пешком тысячи километров Украины, Придонских и калмыцких степей, Кубани и Кавказа; не думал, что придётся так мучиться от холода и зноя, переносить жажду и радоваться маленькому сухарику.
Год прошёл, и это всё прошло.
Но итоги года всё же слишком печальные: ещё дальше отступили на тысячу километров, отдали немцу богатую Кубань, угольный Донбасс, Северный Кавказ. Потерял родных, погибли прекрасные товарищи однополчане, а перспективы дальнейшего стоят во мраке.
Где же моя семья, где Тоня, где детки? Живы ли, здоровы ли они?..
Такая тоска на душе… Если и живы, то ещё на более долгий срок ушла надежда снова их увидеть, снова обнять моих деток. Да и сам доживу ли до того времени.
Детки мои, детки! Если и живы, то несладко вам там. Я знаю, что вы не меньше меня страдаете, терпите голод и холод.
Меня мучает сознание того, что я иногда ругал или наказывал вас за ваши провинности. Не вспоминайте меня злом за это…
Что даст моей Родине второй год войны? Хочется верить, что только победу!
20 августа
Из клуба выбрались на место строительства обороны, так как ходить было далеко – километров шесть. Ночью прошёл дождь, промокли до нитки, простудился.
Снова вернулись в аул.
Аул и долина, в которой находимся и где строим оборону, расположен между двумя цепями гор, идущими параллельно главному хребту Кавказских гор. Блестят на солнце ледники на вершинах громад, а выше всех – белая шапка Казбека.
В этой долине никогда почти не бывает ветра, но часто выпадают дожди. Земля почти всегда влажная. Только часть её засевают пшеницей, кукурузой, подсолнечником, а большинство гуляет, заросла травами и бурьяном выше человеческого роста. Часто встречаются небольшие рощи лесного ореха-лещины. Минут за десять нарвёшь их полный карман.

25 августа
Жизнь продолжается в напряжённом труде. Получили указание (не знаю, какой дурень мог его придумать) – работать в сутки 20 часов, 3 часа на сон, 1 час на еду. Проработали так трое суток, потом стали падать в обморок, теряли сознание, никакие взыскания не помогали, производительность упала. Снова перешли на 16 часовой день.
При такой тяжёлой работе, получаемого скудного пайка не хватало. У кого есть деньги, покупают у чечен пышки, чуреки. Чаще же всего карабчим у чечен кукурузу и варим или жарим в кочанах. Это большое подспорье к получаемому питанию.
Второй раз живём уже с чеченами. Я уже описывал впечатление об этом народе…
Сохранился [у них] закон местничества. На кладбищах возле некоторых могил стоят высокие деревянные столбы с железными кругами. Эти столбы поставлены на могилах убитых и не снимаются, пока родственники убитого не убьют (не отомстят) убившего или его родственника. Так тянется из поколения в поколение. На каждой могиле стоит каменная плита, большей частью с художественно высеченными рисунками и надписями на арабском языке.
Во дворах, обыкновенно обнесённых камнем или плетнём, чисто, и в домах много ковров. Печи маленькие, на четырёх железных ножках – «чеченки». Хлеб не пекут, а питаются кукурузными лепёшками – чуреками с бараниной, овечьим сыром. Коровы здесь маленькие, как козы. Много буйволов.
12 сентября
Переходим на другой участок строительства обороны за р. Терек. По дороге перешли реку Сунжу и ещё несколько быстрых горных речек.
13 сентября
Подошли к реке Терек. Переходим по понтонному мосту, железобетонный несколько дней тому назад взорвали, боясь, чтобы его не захватил немец, которого недавно отсюда прогнали.
Под Моздоком идут жестокие бои. Грохочет день и ночь артиллерия.
Дан приказ – ни шагу больше назад!
На фронт всё время движутся войска, танки, артиллерия, кавалерия, обозы. Это отрадно, значит, не иссякли наши силы!
Этот участок фронта становится решающим в обороне Грозного и всего Кавказа.
15 сентября
Расположились в саду питомника возле станицы терских казаков – Червлённой. Живём под открытым небом.
17 сентября
Надо срочно укрепить район. Работаем с утроенной энергией. Выполнить 300–400 процентов большого задания становится обычным явлением. Делаем большей частью железобетонные доты, дзоты, устанавливаем бетонные пулемётные колпаки.
19 сентября
Ходили в Червлённую в баню. Правда, это не баня, а какое-то недоразумение, но всё же передышка, немного отдохнули.
24 сентября
Батальон расформировался. Часть сапёров и командиров, в том числе и меня, перевели в 1670 батальон. Ну что ж, переходить не впервой. Привыкаешь к одним людям, привыкнешь и к другим.
Не нашёл своего мешка в обозе. В нём фуфайка, одеяло и ещё некоторые вещи. Жалко, так и пропало всё.
Куда-то должны передвигаться. Слухи ходят, что снова в третий эшелон, т.е. подальше от фронта.
25 сентября
Проходим г. Гудермес и Хасавюрт. Много орехов, кизила. Купил на 10 рублей у чечен кизил, спелый, красный, вкусный, но наспех высыпал в новую пилотку, она через 10 минут стала ярко-красная. Повозился, пока вымыл.
Идем днём и ночью. Перешли реку Сулу. Очень быстрая, шумная, горная река. Справа тянутся цепи гор, слева – Терек, дальше голая равнина. Дорога неровная, песчаная – начались дагестанские пески.
27 сентября
Сильный лобовой ветер, глаза засыпает песком, нельзя открыть глаза. Идти очень тяжело. Кажется, никогда не болели у меня так сильно ноги. Напрягаешь все усилия, чтобы сойти с ротой. Очевидно, сказывается уже прошедший год…
28 сентября
Прошли около 200 километров. В 17 километрах – город Махачкала, столица Дагестана. Слышен солёный запах Каспия. С горы утром видны волны этого моря.
Итак, Азовское, Чёрное и, наконец, Каспийское море. Далеченько зашли. Дальше, по-моему, некуда уже идти…
Остановились в ауле Кумтур-Калы. Население – кумыки. Постройки все горного типа – сакли с плоскими крышами, узенькие, кривые улочки, обнесённые камнем дворы. Каждый двор – настоящая крепость.
Аул расположен на горе, а внизу вьётся горная речка с дном из валунов. В долине – виноградники, но винограда, к сожалению, уже нет. В ауле есть базар, можно купить молока, яблок, чуреки, но всё это дорого, не по нашему карману. Кумыки, как и чеченцы, очень любят деньги, но у нас их, к сожалению, нет.
Попал с шестью сапёрами на квартиру в один кумыкский дом. Хозяйка выделила для нас во дворе отдельную саклю. Во дворе одни женщины, люди, видно, неплохие. Все в трауре. Оказывается, 10 дней назад они получили извещение, что их хозяин, 48 лет, убит под Моздоком.
29 сентября
Наш батальон перешёл в действующую армию. Началась другая жизнь. Началась строевая и боевая подготовка. Нам сказали, что оборону соорудили, теперь, если потребуется, сами будем её занимать и никуда уже отступать не будем.
Давно бы так.
Работать будем меньше, больше учебные занятия. Все были рады этому.
1 октября
КУМЫКИ
Это из кавказских национальностей, живущих в Дагестане. Как и чеченцы, они магометане. Строго придерживаются своих обычаев и законов.
Один раз я принёс в медном кувшине с длинным горлышком, какими обычно здесь, на Кавказе, пользуются, воды из речки. Я сказал хозяйке, что в таких кувшинах действительно удобно носить на гору, вода не разливается. Услышав это, женщины подняли невероятный вой. В чём дело? Я ничего не понимал.
Оказывается, по их закону, после смерти члена семьи нельзя 40 дней носить днём с речки воду, а только после захода солнца, иначе душа умершего не попадёт в рай. Я, оказывается, нарушил их дурацкий закон. Кое-как отговорился, успокоил их.
– В рай ваш муж обязательно попадёт, потому что я не магометанин, а в пекло я уже за него пойду.
На том и помирились.
Во дворе в полдень собирается с полдюжины женщин и подымается рёв. Сорок дней должны, так сказать, коллективно, оплакивать умерших.
Фамилия наших хозяев Токаевы. Хозяйку звать Ажей и две дочери – Умкурсун и Умгани. Все довольно красивые, опрятные.
Третий день никуда не иду на занятия. После семи месяцев неустанного труда и огромных переходов этот отдых кажется просто сном. Роты не работают, а занимаются строевой подготовкой, изучают минное и подрывное дело, строевой устав и т.д.
Написал письма Вере и Ване, но никакой не было уверенности, что дойдут они к ним.
Пришли слухи, что из аула будем выступать. Как жаль, хотя бы немного пожить такой жизнью, спать на сене в жилой комнате.
4 октября
Стоит всё время сухая погода, но скоро, говорят, пойдут обильные дожди, сырость. А я этого боюсь: у меня развился острый ревматизм позвоночника и ног. Как полежу на спине – не могу потом повернуться. Делаю горячие компрессы к позвоночнику, втирания.
14 октября
Получил командировку в Избир за химимуществом. Избир находится на берегу Каспийского моря, километрах в ста от Махачкалы, не доезжая Дербента. Едем подводами, проезжаем город Махачкалу. Город как город, ничего особенного. Всё занято строительством обороны. Едем по берегу Каспийского моря. Направо – горы, налево – море, и такая дорога до самого Баку.
Погода стоит тихая, но море, как всегда, вечно шумит. Купаться уже холодно, но помыл руки, умылся. Ночевали на одной станции в русской семье.
Со мной ехал начхимслужбы батальона капитан Норкин. Сам он из Москвы, средних лет, по образованию инженер, работал до войны на каком-то заводе. Весельчак, любил рассказывать анекдоты, образованный, хорошо разбирался в музыке, живописи, вообще, был интеллигентный хороший человек, с которым можно было обо всём поговорить. Любил, конечно, выпить.
Семья, в которой мы остановились переночевать, тоже оказалась из интеллигенции, и у нас завёлся разговор о писателях, книгах, композиторах и прочих других вещах совсем невоенного характера, и было приятно хоть на час перенестись мыслями в другой мир, который мы начали уже забывать.
17 октября
На обратном пути ночевали в Махачкале. Продовольственные наши запасы истощились, и пришлось попросить в пекарне пару буханок хлеба, где мне не отказали и бесплатно отпустили без аттестата.
Осмотрел город, порт.
19 октября
Передислоцировали из Кумтуркалы в другой аул. Жалко было расставаться с семьёй Токаевых.
26 октября
Несколько дней жили в конюшне совхоза, потом переехали в аул Куфыр-Кумыс под городом Буйнакск, называвшийся раньше Темир-Хан-Шура (столица Шамиля). Поселили вместе со старшиной – земляком Котенко и каптернамусом, бывшим учителем Цыгипом.
Исполняю обязанности писаря роты вместо Цыгипа, и это дало мне возможность не ходить на строительство окопов за 10 километров.
Ездил на машине в командировку в г. Махачкалу. Ехали по шоссе через перевал Терского хребта. Дорога очень интересная, всё время петляли, крутые повороты, подъёмы и спуски. Внизу пропасть, а наверху, посмотришь – над головой висят огромные каменные скалы. На самом перевале облака очутились уже внизу. По прямой линии через хребет не более 3 километров, а дорогой ехать больше пятнадцати…
1 ноября
Ходили в Буйнакск в баню, мылись холодной водой. На базаре много фруктов, орехов.
Интересно было наблюдать, как горцы вывозили на базар свои продукты: горец – глава семьи – хорошо одетый шёл с хлыстом впереди, а позади него несколько его жён, сгорбившись в три погибели, тащили на своих плечах тяжёлые мешки, такие же, как на шагавших рядом ишаках. Советских законов о равноправии женщин никто из этих полудикарей не признавал.
2 ноября
Погрузились в вагоны. Едем, наконец, на фронт. Почти все были рады этому, так как надоело уже болтаться по тылам.
Надо на фронт, там мы нужны! Ещё больше были рады, что едем поездом, а не идём пешком.
3 ноября
Выгрузились на ст. Червлённая.
5 ноября
Со ст. Червлённая двигаемся походным маршем по берегу реки Терек к Моздоку.
8 ноября
Остановились недалеко от чеченского аула Бено-Юрта. Начиная от Гудермеса и далее на запад по реке Терек по левой стороне этой быстрой реки расположены казацкие станицы, а по правой – чеченские аулы. Здесь постоянно шла вражда между казаками и чеченцами. Об этих местах писал Лермонтов:
По камням струится Терек,
Плещет мутный вал,
Злой чечен ползёт на берег,
Точит свой кинжал.
И вот здесь уже три месяца стоит теперь фронт. На левой стороне в станице Ищерской и дальше до Моздока окопались немцы, а на правой, ниже Мундар-Юрта и Бено-Юрта, стоит наша армия.
15 ноября
Выкопали землянки, кое-как перекрыли, насыпали землёй. Дождь, снег, всё время сыро. Вода просачивается, шлёпаем по воде. Топить нечем, бурьян сырой, печек нет. Чтобы как-нибудь, хоть немножко обогреться, разведёшь в землянке костёр, дым разъедает глаза.
А немцы всё время бьют из орудий, миномётов, пулемётов. Несколько человек из наших сапёров ранено, а в первой роте троих убило.
Копаем окопы, устанавливаем мины только ночью, всего в 200 метров от немецких позиций. Часто слышим их разговор. Двоих азербайджанцев немцы просто выкрали. А на другую ночь заставили их кричать, чтобы наши переходили к ним в плен.
16 ноября
С раннего утра начался бой. Немцы пошли в наступление. Беспрерывная артиллерийская и миномётная стрельба, не умолкают пулемёты и автоматы. Ночью трассирующие пули и снаряды пронизывают темноту, пролетают над головой.
Целый день и ночь шёл бой на левом фланге. Наши части отбили все атаки, взяли в плен несколько танков.
Много наших убито и ранено.
18 ноября
Наша рота перешла в аул Верхний Наур. Расположились в саклях. Так рады, что выбрались из этих нор-землянок. Рядом река Терек, лес, топлива сколько угодно. Работаем на левой стороне реки. В этом месте наши войска занимали оборону и по левой стороне реки. Прокладываем через лес и болотистую местность дорогу к передовой линии.

25 ноября
Переходил по понтонному мосту через Терек. Нёс из леса дрючок на топку. Понтон узкий. Навстречу двигалась батарея орудий. Чтобы пропустить батарею, я стал на самую кромку понтона. Шедший напротив какой-то артиллерист-челдон зацепил своим плащом мой дрючок, я получил небольшой толчок и, так как было скользко, этого достаточно было, чтобы я полетел в реку. Это было метров в 40 от берега. Быстрое течение подхватило и понесло меня вниз по течению.
Я одет был не в шинель, а в фуфайку, и это спасло меня. Пока не намокла, она поддерживала меня на воде.
Я быстро стал плыть к берегу. Но и фуфайка начала быстро намокать. Руки стали коченеть в ледяной воде, и меня стало тянуть на дно. Мысль, что придётся утонуть, так глупо погибнуть, помогла мне напрячь все свои силы, и я, прикладывая нечеловеческие усилия, то ныряя, то снова появляясь на поверхности бурной реки, продолжал плыть к берегу.
Я видел, как по берегу бегали бойцы, но ничем не могли помочь. Наконец, один из них подал мне длинный шест, и я, уже почти теряя сознание, схватился за него. Меня вытащили на берег. Умение хорошо плавать спасло меня.
Дул сильный ветер со снегом. Обсушиться негде было, и я, сколько было силы, побежал в аул, решив, что только в беге моё спасение от простуды. Старшина дал мне сухое бельё, стопку водки, и я, укутавшись, лёг возле печки.
Я думал, что получу воспаление лёгких, но всё обошлось почти благополучно.
28 ноября
Замечательные сообщения со Сталинградского фронта: наши войска прорвали немецкий фронт, окружили сталинградскую группировку, только в плен взяли 63 000 немцев. И на нашем фронте каждый день усиленно подтягиваются резервы. Значит, на нашем фронте скоро начнётся наступление, только уже не немецкое, а наше. У всех возбуждённые, довольные лица. Мы никогда не расставались с верой в победу, но когда настанет перелом в войне, мы не знали, всё до сих пор было пока во мгле.
– Вот теперь уже начнётся война, – сказал я как-то в беседе с товарищами.
– Что ты? Война уже полтора года идёт, полстраны немцу отдали, а он – только началась, – удивлённо посмотрел на меня командир взвода Свешников.
– Вот именно, когда немцы били и гнали нас, я это не считаю за войну. Настоящая война будет, когда мы будем бить и гнать его.
– Это таки верно, – поддержал меня политрук.
30 ноября
Переехали на станцию Леднев. Остановились в двух километрах от фронта. Построили землянки. Артиллерия и миномёты бьют рядом. Наши прогнали немцев на 14 километров. Много раненых, убитых. Лежит изувеченный труп лейтенанта танкиста. Выкручены ноги, руки, порезали лицо. Мерзавцы…

6 декабря
Сильная артиллерийская перестрелка. Наступили морозы, выпал первый снег. Получили первый раз по пол-литра вина – фронтовой наш паёк. Вино замечательное, грузинское, выдержанное. С непривычки охмелели.
Наша разведка донесла, что немцы заминировали участок напротив нашей 15-й дивизии, к которой был придан наш батальон. Получили приказ проделать проходы в минном поле.
Отобрали на выполнение этого задания младших командиров и лучших сапёров. Я попал во взвод Верховодова, с которым и раньше дружил.
Стемнело. Захватив миноискатели, оставив позади окопы передовой линии, соблюдая тишину, пошли в направлении немецких окопов, которые находились в 300–400 метрах от наших. Пройдя метров 100, начали передвигаться ползком. Часто останавливались, прислушивались. По нашим расчётам мы уже должны были приблизиться к минному полю, водим миноискателями, но мин не обнаруживаем. Ползём дальше, нервы перенапряжены. Послышался немецкий разговор, снова тихо. Немцы близко, значит, мины должны быть здесь. Наконец, сержант Чуркин подал условный сигнал, что его миноискатель начал гудеть, напал на мину. Другие тоже нашли мины. Подползаю к Чуркину, он указывает, где должна быть мина.
Едва заметный бугорок земли, присыпанный снегом, под ним смерть, надо побороть её.
Кто не был сапёром, тот даже представить не может, какой это напряжённый и опасный труд!.. Ведь мины бывают самые разнообразные, самые каверзные, сделанные так, чтобы при малейшей неосторожности она взорвалась. Бывают мины противотанковые, противопехотные, в деревянных ящиках и в железных футлярах, нажимного и натяжного действия; бывают с верхним и боковым взрывателем, а иногда и с нижним, который часто трудно найти. Есть мины секретные, мины-«сюрпризы», мины затяжного действия, чёрт знает, каких только нет!
Какая бы мина ни была, её надо вынуть и обезвредить.
Но дело в том, что ведь эту работу надо проделать в темноте, буквально под носом у врага, совершенно бесшумно, так как он тут же, почти рядом, внимательно прислушивается и всматривается, и если обнаружит, сразу скосит пулемётным огнём или очередью из автомата. А в таком случае, мало того, что погибнешь сам, так еще не будет выполнено боевое задание, и при наступлении пехота и танки понесут большие потери.
…Осторожно подползаю к мине с немецкой стороны. Специальным карманным электрическим фонариком, который даёт слабенький свет только в одну точку, освещаю бугорок. Начинаю потихоньку ковырять землю, которой присыпана мина. Показалось тело мины. Обыкновенная, круглая противотанковая в железном футляре. У неё может быть три взрывателя. Осторожно ножом закрепляю предохранитель верхнего взрывателя. Передохнул. Сделана только часть работы. Впереди – много труднее. Начинаю разгребать землю с боков. Начинаю искать боковой взрыватель. Земля промёрзла, пальцы окоченели, а ножом ковырять не положено, можно зацепить тоненькую, еле заметную ночью, примёрзшую к земле проволочку, и мина взорвётся.
Нервы напряжены до невозможности, напрягаю все силы, стараюсь быть спокойным, так как это основное правило при исполнении этой операции. Не думаю о немцах, не думаю, что рядом у товарища мина может взорваться и разнести в клочья и его, и меня.
Пальцы уже в крови, но я не чувствую боли. Наконец, нашёл проволочку от бокового взрывателя. Радуюсь, как будто нашёл счастье. Закрепляю предохранитель и этого взрывателя.
Осталось самое трудное и самое опасное – найти нижний взрыватель. Надо очень осторожно вынимать землю из-под мины, ни в коем случае не сдвинув её в сторону, и ощупью в темноте пальцами выявить проволочку взрывателя. К счастью, земля под миной ещё не успела промёрзнуть и мне легче её выгребать. Выгреб землю сразу с одной стороны, потом – с другой, но проволочки не находил. Проверил ещё несколько раз, прощупал рукой со всех сторон – нижнего взрывателя не оказалось. Я облегчённо вздохнул и вытер рукой холодный пот, выступивший на лице…
Подполз Верховодов. Увидев, что я уже покончил с миной, он улыбнулся, не говоря ни слова, тихонько потрепал меня рукой по плечу.
Мины положено было забрать с собой, а место, где они были, засыпать землёй и замаскировать снегом, что я проделал.
Сколько ушло времени на то, чтобы обезвредить и вынуть мину, я не знал, но мне казалось, что прошла целая вечность.
Когда я со всем покончил, Верховодов потянул меня за собой в сторону и показал новый бугорок, а сам пополз в другую сторону, спрятавшись в темноте ночи.
Снова началась игра со смертью. Снова напряжение всех нервов, всех сил, чтобы успешно справиться и со второй миной. Время от времени, прекращая работу, я дул, чтобы хоть немного согреть коченевшие пальцы, и медленно, с большим трудом обезвредил и вторую мину.
Стал ожидать Верховодова, напрягая зрение и слух в сторону немецких окопов. Нигде ничего не было видно, не слышно было ни одного шороха, хотя я знал, что рядом со мной, напряжённо работают, рискуя каждую секунду своей жизнью, мои боевые товарищи.
Так страшно долго тянется время… Без указания командира с места уходить не разрешается. Мелькнула мысль, а не ушли ли обратно, не бросили ли меня здесь одного, забыв про меня. Но такую мысль я сразу же отгоняю прочь, этого никогда не может быть.
Наконец, вижу, подползает сразу один, потом ещё несколько человек с минами в руках.
Задание благополучно выполнено. К нашему счастью, стоял туман, и немец не заметил, хотя мины снимали в ста метрах от его окопов.
Верховодов несколько раз пересчитал людей, и, продолжая соблюдать строгую тишину, осторожно поползли в направлении наших окопов.
Вскорости наткнулись на передний дозор. Один из бойцов пошёл вперёд предупредить, что идут свои, и мы благополучно вернулись в окопы.
В небольшом блиндаже нас встретил командир стрелкового батальона. Верховодов доложил ему о выполнении задания, подробно рассказал, в каком месте минного поля сделаны проходы, где поставлены маяки, ограничивающие проход, сколько снято мин и т.п.
Командир батальона крепко пожал руку и поблагодарил всех нас за успешное выполнение опасного задания.
Забрав с собой мины, радуясь, что все остались живы, мы направились в свой батальон. Здесь тоже с нетерпением ожидал начальник штаба, которому Верховодов снова подробно доложил о разминировании минного поля. Было много весёлых разговоров, шуток, острот. Напоследок начштаба приказал выдать каждому из нас дополнительно по пол-литра вина, чему мы, конечно, были очень рады.
8 декабря
Погода стоит сырая, туманы. Немецкие самолёты не летают, не бомбят. Продвинулись после сильной артиллерийской подготовки ещё на несколько километров вперёд.
Снова зарылись в землю.
На ночные задания я больше не ходил в эти дни. Каждый вечер, а вечера длинные, вспоминаем прошлое, вспоминаем свои семьи, родных, деток. Писем ни от Веры, ни от Вани. Да и трудно, чтобы сюда дошли.
12 декабря
Продвинулись снова вперёд. Немецкие снаряды летят через наши землянки, бьют по дорогам, где проходят отдельные группы наших войск. Написал письмо Вере.
14 декабря
Ночуем в немецкой землянке, случайно уцелевшей. Большинство же их немцы при отступлении сжигают или зарывают.
Землянка хорошо оборудована, деревянные стены, потолок оббит одеялами, так что песок не просыпается; окна, двери, нары – словом, как в гостинице. Видимо, фрицы думали здесь зимовать и устроились неплохо. Сволочи! Где вы сегодня будете ночевать?!
15 декабря
С боем ещё продвинулись вперёд.
Эх! Если бы так хоть каждый день, вперёд, на запад!
Занимаясь укреплением занятых участков, разминируя минные поля, строя переправы на речках, личный состав батальона каждый день помогал стрелковым частям продвигаться вперёд.
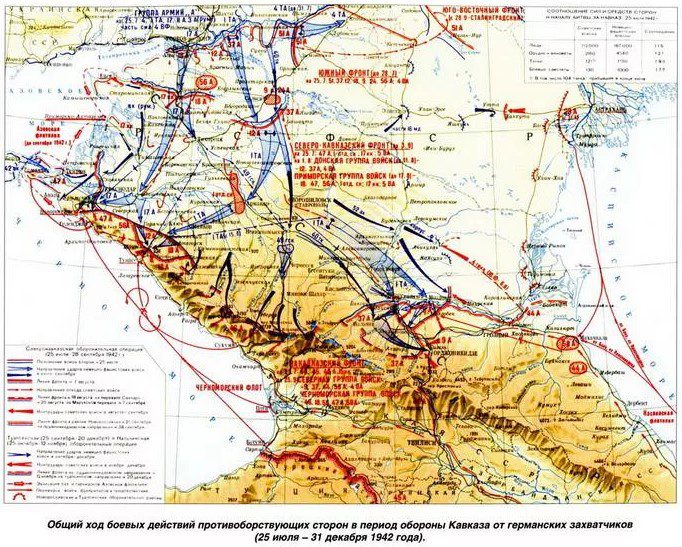
1 9 4 3 ГОД
1 января
Новый 1943 год!
Вчера перебрались в землянки возле села Кривоносово. Землянки замечательные, оборудованные по последней технике. Здесь до наступления у немцев были тылы, и они ни в чём себе не отказывали. Так неожиданно для них самих мы их выбили, что на столе даже осталась ёлка с детскими игрушками и бутылки с недопитым вином.
Ночь. Все спят, одному мне не спится. Раз пять затапливал печку.
На левом фланге всё время идёт артиллерийский бой, подготовка к новому наступлению.
Второй год этот день встречаю в военной обстановке. В этом году, правда, уже на фронте.
Думаю про детей. Вспоминают ли меня? Не забыли ли своего папку?..
Папа и мама – эти никогда не забудут и обязательно вспомнят меня, если остались живы…
Газеты если и получаем, то с большим опозданием. Пользуемся слухами, которые привозят из штаба армии. А слухи ходят, что наши войска уже заняли Чертково. Значит, и родных моих освободили. Хотя бы остались живы, здоровы. Пошлю им завтра письмо, телеграмму. За пять месяцев они, возможно, связались с моей семьёй.

18 января
Районный центр Александровка Орджоникидзевского края. Прорвали фронт немцев и гоним его на Запад. Прошли уже около 250 километров. Немцы бегут почти без боя.
Прошли мимо Моздока, Сабинской, Солдат-Александровской, Советской и других больших станиц этого богатого края. Всё время в походе, заметки писать почти некогда.
24 января
Сильный мороз. Перчаток нет, где-то потерял, и пальцы на руках замерзают. Зима взялась крепкая. Плохо воевать зимой, но немец не любит зимы куда больше, чем мы. Удирает. Правда, он на машинах, а мы пешком, и трудно за ним угнаться.
Сегодня днёвка, думали купаться в бане, но не удалось, завтра снова наступление. Как ни тяжело зимой в походе, но всё же сознание, что идёшь вперёд, на запад, придаёт бодрость, энергию. Хотя бы скорей…
26 января
Вчера в полном снаряжении прошли 50 километров, к тому же местами по плохой дороге. Переутомились невероятно. Погода была тихая, но мороз к вечеру всё увеличивается.
Уже начало темнеть, когда стали подходить к одному совхозу, где предполагалось переночевать. Мы уже все предвкушали отдохнуть после тяжёлого перехода, обогреться в тёплых комнатах, покушать горячей пищи.
Впереди, как и всегда, за несколько километров шёл дозор из разведвзвода. Вдруг навстречу нам, запыхавшись, прибежали бойцы из разведки и доложили командиру батальона, что в совхозе находится немецкая танковая группа в количестве 10 танков. Разведчики случайно встретили в начале совхоза одного из рабочих, который их предупредил.
Что же сделать?
Некоторые командиры предлагали, пользуясь темнотой, ворваться в совхоз и уничтожить немцев.
– Предложение хорошее, – сказал командир батальона, – а с чем мы будем идти против танков?
Действительно, у нас на вооружении были одни винтовки и несколько пулемётов. Даже противотанковых гранат не было.
Оставаться ночевать в степи в копнах пшеницы, которые стояли вблизи, тоже нельзя, так как такой трещал мороз, что ни на минуту нельзя было оставаться без движения, рискуя обморозить пальцы на ногах, а к утру по крайней мере половина батальона уже окоченела бы.
Возвращаться обратно тоже нельзя – ближайший населённый пункт остался в 27 километрах. Положение было критическое.
Рассмотрев карту, выяснили, что в 12 километрах в сторону имеется отделение совхоза. Командование решило идти туда.
Идти 12 километров ещё, когда уже все до предела утомились идти по трескучему морозу, когда всё время надо тереть нос, уши и щёки, чтобы они не отмёрзли – далеко не лучшая перспектива!..
Но лучшего выхода не было, и мы снова зашагали. Хотя санитарные подводы, предназначенные для перевозки раненых и больных, были и свободны, но никто не садился, так как, оставаясь без движения, тело сразу коченело.
К полуночи пришли в отделение совхоза, но здесь нас ожидало новое разочарование – все жилые помещения, конюшни, коровники – всё было забито войсками. В комнатушки нельзя было даже протиснуться, не то что прилечь или посидеть.
До чего же плохое дело!
Разместились наконец, поснимали бельё, оставшись в одних шинелях, стали в огромном сарае для сельхозмашин, с выбитыми окнами. Завесили окна плащ-палатками, начали ломать кое-какой инвентарь и раскладывать костры.
До чего же были рады огоньку, теплу! Начали кипятить в котелках чай. Получили хлеб. Твёрдый, как камень. Только после нескольких ударов топора, удавалось разделить его на пайки.
Находясь всё время в походе, редко снимая одежду, каждый, конечно, завёл вшей, которые никогда не давали покоя. Многие, в том числе и я, стали вытрушивать вшей над костром. Вши не выдерживали жары и сыпались в огонь. Может быть, таким способом не все были удалены, во всяком случае, осталось очень мало и каждый из нас стал чувствовать себя гораздо лучше. Конечно, было много шуток, острот при выполнении этой «боевой операции с внутренними врагами».
Согревшись немного возле костра горячим супом и чаем, с разъедаемыми дымом глазами, прижавшись плотно друг к другу, мы уже под утро уснули крепким сном.
Утром нам в совхозе сказали, что ночью было 35 градусов мороза!
После обеда мы узнали, что наша танковая часть выбила немцев из совхоза, к которому мы подходили ночью, и мы снова пошли на запад. Днём мороз стал значительно меньше. Трое суток я не мог смотреть, настолько дым разъел глаза.

10 февраля
Только сегодня, спустя две недели, снова взялся за свой дневник. Рыбачий посёлок на Дону за Азовом.
За это время прошли сотни километров, местами с упорными боями, с отдельными стычками с отступающим врагом, иногда на десятки километров отставали от него.
Прошли много сёл, станиц, хуторов. В последние дни снова стояли сильные морозы. Отсутствие тёплых брюк и тёплого белья сильно давали знать о себе. Хорошо ещё то, что ветер всё время дул нам в спину, был попутный, и легче было идти.
Прошли большое село Белая Глина, где население украинцы, встретили нас очень радостно, накормили, чем кто только мог. Снабжения с продпунктов армии абсолютно никакого не было, базы отстали и питаемся только местными ресурсами.
Не доходя до города Азова, во время очередной бомбёжки упал спиной на диск автомата и почувствовал острую сильную боль в боку. Боль была настолько сильная, что я не мог подняться, даже повернуться.
Положили на санитарную повозку. Ехали по шоссейной дороге. При каждом стуке колёс о камень боль проявлялась с особой силой и вызывала невольный стон.
Часа через два, к вечеру, вступили в Азов. С помощью товарища я кое-как вошёл на квартиру одного жителя города. Лёг на пол в тёплой комнате. Спасибо хозяйке, дала мне подушку под голову и другую положила под бок. Пришла наш батальонный врач Мария Петровна Бородько, раздела, ощупала больное место.
– У тебя, Цапко, переломлено три ребра. Будет несколько дней очень больно, а постепенно они срастутся. Старайся не двигаться и не кашлять. Когда подойдёт госпиталь, я направлю вас туда. Затем туго перебинтовала грудь в месте перелома, пожелала выздоравливать. Я её поблагодарил.
В дороге простудился, сильно кашлял, и это до слёз усиливало боль. Еле уснул.
К утру немцев выбили из города за Дон. Как будет со мной дальше, не знаю, но быть больным на фронте – очень плохо.
14 февраля
Подул южный ветер, быстро потеплело. Направили в медсанбат дивизии. Медсанбат разместился в нетопленной школе с наполовину выбитыми окнами. Все помещения переполнены ранеными и с отмороженными ногами, лицами. Люди лежат на полу, на грязной соломе, кругом вши, ползают по рукам, по шинелям, на стенах… Раненых столько, что врачи успевают принимать и оказывать помощь, в первую очередь, только тяжело раненным.
В соседней комнате находится операционная. Беспрерывно выносят оттуда в корзинке руки, ноги… Кругом слышны стоны, вопли. В предсмертных судорогах навеки успокаиваются те, кому уже и врачи не смогли помочь.
Врач-старичок в окровавленном халате, видно, до предела уставший, с потным лицом, время от времени выходит из операционной на несколько минут покурить на воздух. Измученное, уставшее, всё в морщинах лицо. Ему уже отдохнуть бы нужно, но рядом идёт бой, беспрерывно поступают новые раненые; он не может отказаться и продолжает своё великое благородное дело. Невольно проникаешься к нему глубоким уважением.
Только на третий день попал на приём к врачу. Врач-женщина осмотрела меня, ощупала место перелома и сказала, что через две недели рёбра срастутся, и снова можно будет воевать.
На другой день я незаметно покинул госпиталь, нашёл палочку и потихоньку пошёл на квартиру, где ночевал в первый раз.
Иду городом, слышу знакомую фамилию. Я подошёл к разговаривавшим между собой двум женщинам.
– Вы сказали знакомую мне фамилию Хохотва. У меня были в Запорожье знакомые с такой фамилией, не оттуда ли он?
– Да, – ответила она мне, – они когда-то жили в Запорожской области, они вот здесь рядом живут.
Семейство Хохотва когда-то жили в хуторе Воздвиженка, недалеко от нас и приходились даже какими-то родственниками моему брату Ване по его жене Дуне. Потом они выехали из хутора, куда – я не знал. Я их мало знал, но с Ваней они дружили.
Когда я вошёл в дом, меня встретил мужчина лет сорока и женщина, очевидно, его жена. Я их не узнал, да и они меня сразу тоже не могли узнать.
– Скажите, пожалуйста, вы будете Хохотва?
– Да, я.
Я некоторое время молча смотрел на него, он – на меня.
– А вы не припомните меня? – снова спросил его.
– Что-то знакомое лицо, а вот никак не припомню, – сказал он, подойдя ближе и всматриваясь в меня.
– А хутор Воздвиженку не забыли ещё?
– Позвольте, так вы, наверное, Цапко, брат Ивана Максимовича?
– Ага, он самый.
Мы крепко пожали друг другу руки. Поздоровался с его женой, познакомил он со своей взрослой уже дочерью.
Я был рад встрече, тем более учитывая, в каком положении я очутился. Не знаю, были ли они так рады этой встрече, но приняли меня очень радушно.
Пригласили сесть, раздеться.
Я им рассказал своё положение, откуда я иду и как попал к ним.
Увидев, очевидно, на моей гимнастёрке обильное количество насекомых, хозяйка сказала:
– Ну, вы тут разговаривайте, а я сейчас приготовлю покушать.
Начались расспросы о родных, знакомых, вспоминали давно прошедшие дни; говорили о ходе войны, о нашем наступлении. Он рассказал мне, как при отступлении их чуть не угнали с собой немцы, как ему удалось перехитрить их. Рассказал, что старшего сына-комсомольца несколько месяцев тому назад немцы расстреляли в ростовской тюрьме.
Незаметно за беседой прошло минут сорок. Вошла хозяйка.
– А теперь, Павел Максимович, идёмте, сразу я вам устрою баню, а потом будем обедать.
Зашли в кухню. На полу стояли ваганы , котёл горячей воды, на стуле лежало чистое бельё, полотенце, брюки, жакет, мыло, густой гребешок.
– Не стесняйтесь, купайтесь хорошо, а то я знаю, вы, наверное, давно были в бане, – сказала хозяйка и оставили меня одного.
Я разбинтовал грудь, налил в корыто горячей воды, разбавил её холодной и осторожно полез в него.
Стараясь не тревожить больное место в боку, я с огромным удовольствием вымыл всё тело и добросовестно вычесал гребешком голову. Кончил купаться, надел чистое бельё и костюм хозяина. Вошли хозяева.
– Большое вам спасибо, не знаю, чем вас и отблагодарить за всё это.
– Пустяки, а вы уже отблагодарили тем, что освободили нас от немцев, – сказала хозяйка и заплакала, вспомнив погибшего сына.
Вошли в столовую. На столе уже был приготовлен обед, бутылка самогона. Оказалось, что хозяин был хорошим специалистом по изготовлению этого чудесного напитка.
За столом снова начались разговоры и воспоминания.
Вечером меня положили в чистую кровать, укрылся чистым, тёплым одеялом.
До чего же я был рад всему этому. Как я благодарил случай, который привёл меня в эту семью.
Когда я проснулся на второй день, на стуле, возле моей кровати уже лежали чистые прокипячённые и выглаженные мои брюки, гимнастёрка, бельё, портянки, бинты.
– Можете теперь смело надевать своё обмундирование, кусать уже некому будет, – сказал вошедший Хохотва. – А шинель тоже прокипятили, к вечеру высохнет, – добавил он и помог снять с груди полотенце, которым я обвязал вчера себя и помог оббинтовать снова чистыми бинтами. От всей души я снова поблагодарил своих милых знакомых.

20 февраля
В доме Петра Прокофьевича Хохотвы я пролежал три дня, ни в чём не нуждаясь. Мне стало значительно лучше, но сильная боль ощущалась ещё во время кашля. Кости, очевидно, только начали срастаться.
Как я после узнал, на второй день после вступления в Азов, наш батальон приступил к укреплению ледяной дороги через Дон для прохождения танков, артиллерии, машин с боеприпасами.
В течение двух дней были разобраны огромные деревянные склады, амбары, все постройки, где было больше дерева. Весь этот лесоматериал свезли на Дон, выстилая по льду дорогу, шириной метров десять. Брёвна и доски скрепили крепко железными скобами, получился прочный настил, по которому уже не опасно было передвигаться танкам и орудиям.
22 февраля
Немцев отогнали на другую сторону Дона, километров на 12 от Азова, где сейчас идут ожесточённые бои. Правый фланг нашей армии занял Ростов.
Я узнал, что наш батальон расположился в рыбачьем посёлке Рогожкино, в дельте реки Дона, километрах в четырёх от фронта, где продолжает делать настилы по льду большого количества притоков Дона.
Чувствуя себя значительно лучше и не желая отстать от своего батальона, я, правда, с большим сожалением, решил направиться в батальон.
Пётр Прокофьевич предложил мне отвезти меня в Рогожкино на санках своей лошадью. Я с удовольствием принял это предложение.
Простившись с семьёй Хохотвы, мы за час добрались на место.
В Рогожкино жил родной брат Петра – Александр Прокофьевич, работавший в рыбартели бухгалтером.
Александр Прокофьевич и его жена оказались исключительно милыми людьми, были очень рады нашей встрече и предложили жить у них, пока батальон будет находиться в Рогожкино. Я, конечно, с благодарностью согласился.
Врач батальона дал мне ещё на две недели освобождение, до полного выздоровления.
За время моего отсутствия в нашей роте несколько человек было ранено и три человека убито.
Александр Прокофьевич имел свой хороший домик, жил зажиточно. Его жена, очень симпатичная женщина, старалась создать для моего выздоровления все возможные условия. Здесь я уже вволю откушал рыбы во всяких видах приготовления. Мария Фёдоровна была большая мастерица готовить из рыбы всевозможные закуски. Рыбы здесь было очень много, за две папироски у рыбаков можно было выменять килограммов в пять весом судака или сома.
25 февраля
Фронт под Таганрогом. Немец остановился на прошлогодних укреплённых позициях и не хочет дальше отступать. Батальон продолжает строить переправы. Снова раненые, снова убитые товарищи…
Сегодня написал Ване и Вере письма.
Из сёл и городов немцы увезли в Германию всю молодёжь от 15 лет. Боюсь, и Котю постигла эта участь.
До Запорожья осталось всего 350 километров. Скорей бы вперёд…рта
После выздоровления назначили временно писарем в 3-ю роту. Это большое облегчение, так как на работу не хожу.
Село Морской Чулек, расположенный на самом берегу Азовского моря. Передовая находится в Приморке, возле Таганрога. Фронт проходит по балке: наш берег пологий, а его – крутой, каменистый. Естественное укрепление, и так от моря и вглубь, на север по речке Самбеку до Матвеева Кургана и дальше. Знал, проклятый, где занять оборону.
Ходил в Приморку. Чуть не ухлопало миной. Неприятелю всё видно как на ладони, и он не стесняется посылать мины по каждому человеку. Счастье моё, что услышав её собачий вой, успел лечь на землю.
Нашей роте приказано построить мост через речку Самбек, а немец в 50 метрах. Хотя наши сапёры делают его и ночью, но не обходится без потерь.
Живём в нежилых помещениях. Все жилые немец при отступлении сжёг. Ещё холодно, топить нечем. Лежит снег, на море лёд.
Очень тяжело без табака. Табак – это валюта. За пять стаканов табака можно выменять новые фетровые валенки, за пару папирос – пайку спирта. Одну папироску тянут три-четыре человека. Эх! И курить же хочется…
Один из поэтов написал в этот период стихи, переложенные каким-то композитором на песню:
Тает снег в Ростове,
Тает в Таганроге и т.д.
Давай покурим, товарищ мой,
Давай покурим, дорогой, и т. д…

1 апреля
Снова перевели меня на должность химинструктора роты. Это значит быть всегда с ротой на выполнении всех строительных и боевых заданий.
Село Александровка. Рота строит дамбу через речку в Новосёловке, оборонные сооружения, минирует на передовой.
Живём в сырых подвалах. Ночью душит кашель. Во время постройки моста пришлось несколько часов бродить в ледяной воде по колено и простудился.
Скорей бы вылезть на поверхность из сырых нор, но на дворе ещё холодно и тоже не отдохнёшь после утомительных работ, дует ветер, а немец всё попалил.
Убило бомбой нашего оружейного мастера Секача. Осколки пролетели мимо меня, но, на моё счастье, не зацепили. Замечательный был человек и товарищ. Года на два старше меня, имел жену, четырёх детей.
Питание неважное. Всё уже осточертело, впереди пока не видно просвета. Наша армия пробовала несколько раз наступать, но понесла огромные потери, не продвинувшись ни на шаг, и пришлось занять оборону.
Узнали, что на Харьковском фронте наши войска начали отступление. Ходят слухи, что много наших немец взял в плен.
Работаю несколько дней в штабе батальона над картами, черчу схемы наших оборонительных сооружений для штаба армии. Куда приятнее было составлять планы наступления.
Химинструктора первой и второй роты направили на курсы среднего комсостава. «Перерос, – мне говорят, – туда помоложе надо». Так обидно…
Получил посылку от Веры, и обратно возвратилось письмо, которое я писал Ване. Видно, его уже забрали в армию, а его жена Дуня переменила место жительства.
Появился сыпняк. Этого ещё не хватало! Трудно выжить в этих условиях, если им заболеешь.
В свободное время сделал мельничку для помола зерна, продал одной гражданке за 300 рублей. Есть на табачок!
9 апреля
Выпросился у командира роты т. Соколова в Ростов купить табака себе и бойцам. Наши сапёры возили автомашинами мины из Ростова к линии обороны, я и пристроился к ним.
Я не узнал Ростова. Ни одного более-менее приличного здания не уцелело. Всё немцы сожгли, повзрывали. Просто жутко становится, проезжая главными, когда-то красивыми, улицами этого большого города.
Отступая, немцы убили много тысяч жителей, многих отправили в Германию. Евреев всех уничтожили, даже стариков и детей.
На базаре всё можно достать, но всё очень дорого. Только рыба дешёвая. За 30 рублей купил пуд прекрасной рыбы и за 25 рублей стакан соли. Купил табака себе и товарищам. Кусочек мыла и ещё кое-что. Зашёл в парикмахерскую, где уже больше года не был. Побрился, даже с одеколоном.
Когда вернулся, Соколов меня выругал, что не взял отпуска в штабе батальона со штампом и печатью.
12 апреля
Получили задание замаскировать передний край окопов.
Вечереет. Тихо. Сквозь редкие тучи слабо пробивается луна. Когда стемнело, ходами сообщения подошли к передней линии окопов. Громко разговаривать нельзя – в 300 метрах немецкие окопы, откроют огонь.
Стрелкам запретили стрелять, чтоб не вызвать ответный огонь. Только в соседних подразделениях изредка потрескивает пулемёт или раздаётся одиночный выстрел.
Собираем вблизи, где только имеется, бурьян и втыкаем на чёрную земляную насыпь впереди окопов. Силуэты наших сапёров мелькают в проблесках луны и трассирующих пуль. Стрелки впиваются глазами в темноту – нельзя пропустить вражескую разведку или неожиданную атаку.
Маскируем несколько часов подряд. Это искусство освоили так хорошо, что, бывало, пройдёшь в открытом поле днём мимо дота или дзота, тобой же сделанного и не заметишь его. Наконец, всё сделано. Залазим в окопы. Беседуем с бойцами. До чего же редко их в окопе, прямо-таки обидно… Просят покурить, и у них нет ни у кого табака. Раздал с полстакана махорки, весь запас, что был. Кто, как не такой курец как я, понимает, как плохо без табака стоять всю ночь в окопах передовой линии. Когда есть, как не дать.
Перешли метров за сто в следующее подразделение. Снова повторяем ту же работу.
Изредка то здесь, то там бухнет мина, но обращать внимание нельзя. Надо работать, работать быстро, иногда ползком, когда пробивается луна и становится светлее. Ведь днём носа показать нельзя, вражеский снайпер сразу скосит.
Кончаем перед рассветом и уходим в село за три километра отдыхать. Ночь прошла благополучно. Но не всегда так бывает. Шальная пуля или осколок мины иногда ранят, иногда убивают наповал сапёра.
Днём все крепко спим.
18 апреля
Подвезли большую партию противотанковых мин. Необходимо было заминировать между немецкими и нашими окопами участок, длиной около двух километров, удобный по своему рельефу для прохождения танков неприятеля.
Прошлой ночью мины были подвезены, а затем перенесены к передовой линии.
На минирование пошла почти вся наша рота. Задание это надо было выполнить в течение 2–3 дней, пока стояла облачная погода и ночи были тёмные.
В окопы передовой линии вошли, когда уже стемнело. Каждый заранее знал свою обязанность в этой операции. Ещё с вечера, когда построились идти на задание, у всех были отобраны спички, а заодно и табак.
Соблюдая полнейшую тишину, выслав вперёд передовое охранение, осторожно пошли по направлению немецких окопов, находившихся в этом месте в 250–300 метрах.
Некоторые сапёры обязаны были подносить мины. Обязанность других заключалась в том, чтобы вырыть сапёрной лопаткой ямку для мины и уложить её вровень с землёй. На обязанности третьих, куда вошли лучшие минёры, командиры отделений и я в том числе, лежала самая ответственная, самая опасная операция – установить взрыватель мины.
Наша обыкновенная пятикилограммовая противотанковая мина в деревянном футляре сама по себе без взрывателя не опасна. Поэтому закапывание мины дело уж не такое сложное. Опасное дело – это установка взрывателя в ней. Вот почему эту операцию почти всегда поручали нам, более опытным, более выдержанным, более серьёзным людям.
Опасность обыкновенно усугублялась тем, что эту операцию надо ведь проводить при полной темноте, соблюдая тишину, так как не более чем в двухстах метрах, а может и ближе, притаился враг, который на малейший шорох пускает автоматную очередь.
Пока товарищ закапывает мину, я лёжа вынимаю осторожно из сумки очередной взрыватель и, когда напарник, нагнувшись, отходит к месту установки следующей мины, приподнимаю крышку мины. Затем ощупью нахожу в теле углубление для взрывателя и, соблюдая осторожность, вставляю в неё взрыватель, придерживая другой рукой крышку. Потом, опять-таки соблюдая осторожность, ставлю между крышкой и стенкой футляра деревянный колышек. Засыпаю мину землёй, маскирую бурьяном. Получился в результате почти незаметный бугорок. Но стоит на этот бугорок стать ногой, а тем паче наскочить танку, колышек сломится, крышка придавит взрыватель и страшной силы взрыв перекинет танк, а человека разнесёт на мелкие куски.
Нервы напряжены до предела. Пальцы поначалу немного дрожали. Потом, после трёх-четырёх мин, привыкнув, делаешь всё спокойнее и эту операцию проводишь быстрее.
20 апреля
Продолжаем минировать поля между немецкими и нашими окопами. Вчера сапёр нашей роты Фёдор Локтев подорвался на своей мине. Разнесло в клочья.
Немцы часто устраивают «фейерверки» – набирают в пулемётные ленты разноцветных трассирующих пуль и при стрельбе получается красивое зрелище. Впрочем, красоты этой не замечаем, когда эту ленту направляют по нашим окопам, по нам во время минирования.
Почти каждую ночь слышим из немецких окопов музыку, что передают по радио, или играют патефонную пластинку. После музыки, к которой невольно прислушиваются бойцы, начинают агитировать в громкоговоритель наших красноармейцев и командиров бросать оружие и переходить к ним в плен. Агитация, правда, наивная, глупая.
– Красноармейцы и командиры, слушайте нас! Переходите к нам. Мы хорошо кормим, дадим по полкилограмма белого хлеба, по пачке папирос в день. Заставлять работать не будем. На трёх командиров дадим денщика. Не верьте политрукам, что мы угоняем пленных в Германию, – ну, и так далее.
– Дёшево же ты нас хочешь купить, мать твою, перемать, – обычно отвечают наши бойцы и запускают по направлению голоса пулемётную очередь или выпускают несколько мин из ротного миномёта.
22 апреля
Уж окончили минирование. Почти все сапёры уже вошли в окопы. Я немного задержался со своим напарником. Под утро поднялась луна, и стало уже достаточно светло. Мы, нагнувшись, подходили к своим окопам, когда немец заметил нас и открыл стрельбу. Мы прилегли и ползком начали добираться до своего окопа. Пули летели низко над головой, падали сбоку, спереди. Хотя я уже привык к «пчёлам» и уже мало обращал внимания при бесприцельной стрельбе, когда немцы в темноте пускают очередь по нашим окопам на всякий случай, но теперь они стреляли по мне и по моему товарищу. Немного испугавшись, мы поспешили и вскочили в окоп.
– Меня, кажется, ранило, – сказал мой товарищ, осетин Изгоев. Снял сапог. Действительно, пуля зацепила мякоть на голени, но не сильно. У меня была пробита в двух местах шинель.
Минут через 10, когда убедились, что все наши сапёры и дозорные ушли из «ничейной» земли, командир стрелковой роты, занимавшей оборону, приказал бойцам дать ответный огонь. Я выпустил целый диск из своего автомата. Постепенно стрельба прекратилась с обеих сторон, и уже светало, когда мы, согнувшись, гуськом, друг за другом ушли ходами сообщения с передовой на отдых.
23 апреля
Получил тёплое письмо от Александра Прокофьевича Хохотвы и его жены из Рогожкино. От Веры и стариков всё нет.
Недавно были введены в военную форму погоны. Мы шутили по этому поводу, и средних командиров, которых теперь стали величать офицерами, мы называли «золотопогонниками». Они смеялись и тоже отвечали шутками. Вообще, командный состав у нас подобрался хороший, все жили дружно. Ничто так не связывает, как постоянная опасность, нигде нет крепче дружбы, чем дружба боевых товарищей.
В домике, где мы отдыхали после обычных ночных заданий, нас было человек десять. Вдруг, слышим какую-то долю секунды шум и сильный удар возле домика, от которого задрожали стены. Мы выскочили во двор и увидели на расстоянии метра от фундамента, напротив той комнаты, где мы сидели, дыру сантиметров 20 в диаметре. Тяжёлый немецкий снаряд, к нашему счастью, не разорвался, иначе никто бы в живых не остался.
Вечером в глубоком овраге состоялся киносеанс. С окружающих частей и подразделений дивизии собралось, наверное, больше тысячи бойцов. Экран установлен на дне оврага, причём сверху хитро замаскирован, а зрители разместились по обоим склонам оврага.
Демонстрировали фильм «Как закалялась сталь», какой-то фильм из жизни цирка, киноконцерт, киножурналы, вообще, пропустили много картин. Часа четыре мы смотрели другие края, другую жизнь, жизнь мирного времени, мирных людей, от которой мы уже отвыкли, и она казалась нам теперь каким-то сном.
Мы все были очень рады кино.
На другой день в этот овраг немцы пустили штук пятьдесят снарядов. Поздно!
25 апреля
Получил предписание выехать в командировку в Верхний Чулек, где до сих пор оставалось одно наше подразделение. Думал обязательно заехать в Рогожкино к Хохотве, но в штабе батальона в Александровке командировку отменили и зачислили меня приказом старшим писарем батальона вместо Дудченко, которого направили на курсы среднего комсостава.
Мне жалко было расставаться со своими товарищами по роте, с которыми я так подружился, с которыми пришлось много пережить, много перенести лишений и опасностей.
Я отказывался, но начальник штаба капитан Гольдинер сказал:
– Вы уже пожилой, вам здесь легче будет, не так опасно, как на передовой.
– А я уже не боюсь опасностей, привык к ним, – ответил ему.
– Ну, такого мне и нужно, – засмеялся он. – Принимайте дела и приступайте к выполнению своих обязанностей, а на передовой мы с вами ещё не раз будем.
Ничего не поделаешь. На военной службе торговаться не приходиться.
Штабная работа была мне уже знакома, и мне не стоило больших трудов ознакомиться со своими новыми обязанностями.
28 апреля
Приказом по армии получил звание «старшина». Пришла сестра сапёра Погребенко из Рогожкино. Принесла мне от Хохотвы пару красных пасхальных яичек, пасочку, копчёной рыбы, кусок балыка, коробку паюсной икры и ещё кое-что. Я был очень рад всему этому, передал Хохотве большую благодарность, а вечером всем штабом с большим удовольствием отдали честь этим деликатесам.
5 мая
Продолжаю работать на новой должности в штабе. Кроме меня, имеется ещё один писарь, мой помощник. Я большей частью веду секретную и особо секретную переписку, пишу приказы по батальону. Часто получаем распоряжения из корпуса, из армии.
Один раз получили письмо из штаба армии. Начальник штаба распечатал, прочитал его, потом посмотрел на меня, улыбнулся и сказал:
– На, старшина, это письмо, подшей к делу, но чтобы не читал его.
Потом, снова улыбнулся и добавил:
– Впрочем, ведь ты его всё равно прочитаешь. Твои чертежи и схемы обороны, видно, понравились в штабе армии. Приказано тебя откомандировать в штаб армии на должность чертёжника. Как ты, старшина, на это смотришь?
Он мне задал такой вопрос, на который я сразу ответить не мог, и я молчал. Работать в штабе армии, конечно, лучше, лучше снабжение, лучше питание, гораздо больше шансов остаться живым до конца войны. Но за два года я уже привык к жизни сапёра, привык к людям, которые в большинстве были хорошими, хорошо ко мне относились, и это заставило меня задуматься.
– Чего же ты, старшина, молчишь? Не знаешь, что ответить? Тогда я за тебя отвечу. У меня нет никакого желания откомандировывать тебя туда. Я напишу полковнику Сизову, что ты заболел, а там видно. Командир батальона со мной тоже согласится.
– Ладно, – говорю, – пусть будет так. Я тоже это хотел сказать.

9 мая
Штаб батальона находился в селе Александровка в единственном уцелевшем деревянном, довольно большом, приличном домике в конце села, на открытом месте. В одной из комнат помещался штаб и жили писари, в другой жили командир батальона, начальник штаба, начхим и ещё несколько офицеров; в третьей помещались ординарцы, а в четвёртой, маленькой, жил уполномоченный контрразведки ст. лейтенант Проскуров, которого все офицеры называли просто Федя. Вместе с ним в одной комнате жила и молодая хозяйка дома. Жить в прифронтовой полосе, в помещении, где находился штаб воинской части, конечно, не допускалось гражданскому населению. Но по просьбе Феди и немого согласия командира батальона, она осталась жить в своём доме, стирала офицерам бельё и пр.
Вместе с хозяйкой во дворе остался и пёс – огромной величины цербер – Пират. Он был к тому же очень злой и подпускал к себе только свою хозяйку. Все боялись даже подходить к нему.
Был ясный солнечный майский день.
Мы сидели в штабной комнате и занимались обычной своей работой. Окно выходило на большую, деревянную веранду на запад, в сторону фронта. На горизонте в синей дымке хорошо было видно высокий берег Самбека, занятый немецкими укреплениями.
Вдруг, смотрим, к нашему домику подъезжает семь или восемь легковых машин.
Начальник штаба быстро вскочил и посмотрел в окно. То же самое сделали и мы.
Из машин вышло семь генералов и человек 8–9 полковников и подполковников.
Видно было, что Гольдинер встревожился и немного побледнел.
– Так это же командующий армии, а кто же впереди его?
– Постой, ей-богу, Толбухин, командующий фронтом!
Генералы направились в наш дом. Впереди шёл огромной величины детина, генерал-полковник Толбухин.
Гольдинер, быстро оправив на себе гимнастёрку, направился к ним на встречу.
Мы тоже, немного волнуясь, оправили на себе обмундирование и убрали столы, поглядывая в окно и прислушиваясь к разговору, доносившемуся со двора.
Капитан Гольдинер подошёл к Толбухину, вытянувшись в струнку, отдал честь и отрапортовал.
– Вы почему обращаетесь ко мне, а не к своему командующему армии? – прогремел бас Толбухина, – разве вы не знаете его?
– Я обратился к старшему по званию, товарищ генерал-полковник, – ответил, смутившись, начштаба.
– Бол-та-ете, – сказал Толбухин и направился в коридор вместе с командующим армией.
Там он встретил командира третьей роты.
– Вы кто будете? – снова прогремел Толбухин.
– Командир третьей роты старший лейтенант Соколов.
– А какого чёрта вы здесь околачиваетесь, почему не с ротой?
– Прибыл в штаб батальона по приказанию командира за получением новых инструкций по минированию, – быстро сообразил, что ответить, Соколов.
– А это ещё кто? – обратился, видно, с иронией, к рядом стоявшему, всегда чисто выбритому, причёсанному, в аккуратно выглаженном новеньком мундире капитану Норкину.
– Начальник химической службы батальона инженер-капитан Норкин, – отчеканил тот, пожирая глазами Толбухина.
– Смотри, какая важная птица!
Толбухин и командующий армией вошли в нашу комнату.
Мы вытянулись, руки по швам.
– А вы чего здесь, старшина? – обратился он ко мне.
– Я – старший писарь батальона, товарищ генерал-полковник, – почти спокойно, смотря ему прямо в глаза, ответил я.
– Тоже начальник. Одни начальники, а на фронте воевать некому, – уже более спокойно сказал Толбухин и, окинув взглядом комнату, направился обратно к выходу.
В это время Пират, находившийся в своей будке под домом, видя большое количество незнакомых людей, начал гавкать своим громким голосом.
– Давайте здесь пристроимся, – сказал Толбухин, выйдя на веранду, – отсюда неплохо видно местность.
В одну секунду мы вынесли на веранду все имеющиеся у нас стулья и табуретки.
– Уймите собаку! Приличия не знаете, – строго глянув на Гольдинера, сказал Толбухин.
Два ординарца, капитан Норкин, мой помощник, и подбежавший Гольдинер то лаской, то угрозой старались успокоить цербера, но ничего не помогало.
– Разрешите, товарищ капитан, я застрелю его, проклятого чёрта, – сказал адъютант Трущенко.
Но стрелять, конечно, было бы очень нетактично.
Успокоить могла собаку только одна хозяйка, но она спряталась, вместе с ещё двумя офицерами в своей комнате. Если бы она обнаружила своё присутствие в штабе воинской части, это привело бы к большим неприятностям для командира и начальника штаба за нарушение военного приказа.
– Гав, гав, гав! – неистово продолжал Пират.
– Да уймите же собаку! Чёрт бы вас побрал! – сердито крикнул Толбухин, – Говорить не даёт!
Растерянные, взволнованные такой большой неприятностью Гольдинер и другие метались с большими дрючками в руках возле Пирата.
Наконец, ординарцу Дюкову удалось как-то подойти сзади собаки, накинуть на шею петлю и оттащить его в сторону. Все облегченно вздохнули.
Долго, наверное, ещё будем смеяться, вспоминая этот забавный случай.
Между тем генералы и полковники разместились на веранде, вынули из своих планшеток военно-топографические карты и большие блокноты.
Чтобы не показаться неэтичным, я незаметно прикрыл окно, выходившее на веранду, так что, хотя любопытства ради и прислушивался к разговору генералов, но слыхал только отдельные слова, отдельные выражения.
Толбухину докладывали о состоянии обороны все три командира полков нашей дивизии.
Особенно он допекал одного полковника, не знаю какого полка. Но последний очень выдержанно, очень толково объяснял причину создавшегося затруднительного положения. Я прислушался.
– Что я могу сделать, когда на шестикилометровом фронте у меня всего в полку осталось 550 бойцов. Снять, повести из окопов на санобработку и то я не имею возможности, – говорил он.
Спокойный голос, ясные чёткие ответы командира полка, видно, убедили Толбухина и он, уже спокойно обратившись к командующему армией, сказал:
– Дайте ему пополнение из резерва в первую очередь.
Беседа продолжалась минут 20–30.
Вдруг метрах в трёхстах от нас разорвался артиллерийский снаряд.
– Надо убираться отсюда, а то накроет, – сказал Толбухин. – Куда ни поеду, всегда начинает стрелять. Разве у меня такая фигура заметная? – улыбнувшись, сказал он.
Все генералы и полковники, глядя на его огромный рост и широкие плечи, засмеялись при этих словах.
За это время второй снаряд перелетел и разорвался немного в стороне.
– Поехали, а то через меня ещё и вам попадёт, – снова пошутил Толбухин.
Все спокойно, чинно сошли с балкона и разместились по машинам.
Немцы, очевидно, в бинокль заметили скопление легковых машин возле хорошо заметного им нашего домика и открыли стрельбу. Ещё разорвалось несколько снарядов, но в стороне, уже дальше от нас.
12 мая
Получили приказ покинуть армию и Южный фронт, выехать в Саратов.
Все мы предполагали, что там получим пополнение, так как за полгода наступления потеряли почти половину личного состава, а из Саратова, очевидно, направят на Западный фронт.
Быстро собираемся к маршу. За два дня прибыли все роты и взводы из разных полков, куда были прикомандированы для минирования и строительства оборонительных сооружений.
В Ростов пришли пешком, а там погрузились в эшелон.
Перед самым выездом сгорел домик, где мы помещались. Был сильный ветер, и мы едва успели вынести имущество штаба и некоторые вещи. Адъютант Трущенко, виновник пожара, обгорел и теперь ходит с забинтованным лицом.

16 мая
Третий день едем поездом в направлении Сталинграда. Разместились неплохо, свободно. В штабном вагоне всего человек 15 командиров и ординарцев. Проехали Батайск.
Два дня перед этим этот город и крупную станцию посетило 200 штук немецких бомбардировщиков. Исковеркали всю территорию станции, много уничтожили подвижного состава. Воронка возле воронки, до десяти метров глубиной. К нашему поезду успели отремонтировать только один путь.
Проехали Пролетарское, Сальск, Маныч. Это все знакомые места, я их помню по отступлению в прошлом году.
Дальше Зимовники, Котельниково. Это уже Сталинградская область.
Какая здесь унылая степь! Едешь поездом час, два, три – и ни одного села, ни одного хутора. Деревьев, кустарников нет, одни полынь да ковыль. Да степные орлы и коршуны высоко парят в воздухе, порой стремительно бросаясь вниз за добычей.
Часто встречаются подбитые, уже поржавевшие танки, автомашины, самолёты, гильзы от снарядов – следы недавних великих боёв. Здесь кругом места, которые навеки войдут в историю великой сталинградской битвы, разгрома шестой немецкой армии.
17 мая
Подъезжаем к Сталинграду. За лесом блеснула синяя гладь Волги. Разлив. Деревья в воде. Широкая река. Похожа на наш Днепр. Там тоже теперь разлив…
Вот и Сталинград, город-страдалец, город-герой. Здесь решилась судьба немецкого наступления, здесь, по сути, решилась судьба войны.
Видно, что город был красив, но теперь это груда развалин. Ни одного уцелевшего дома! Как будто ураган невероятной силы пронёсся тут, и огромные здания превратил в бесформенную массу камня и пепла. Вот и знаменитый тракторный завод. Но из завода торчат одни разрушенные стены и красные железные каркасы. Много, много потребуется труда и времени, чтобы всё это восстановить.
Едем дальше на север.
Проезжаем десятки километров и везде валяются разбитые танки, самолёты, орудия, автомашины.
19 мая
Проехали ещё километров триста. Поезд идёт медленно, не спешат, не на фонт. Чувствуется уже, что с тёплым югом мы распростились. Ночами надеваем уже шинели.
Населённых пунктов встречаем ещё мало. Земля – один песок. Паршивый край! Нет ничего хорошего.

20 мая
Проехали мимо города Камышина новой железной дорогой. Странно даже смотреть на не тронутый войной, целый город. Стояли долго, думали, здесь будем выгружаться, но ожидания наши не оправдались. Эшелон отправили на запад.
21 мая
Прохладно. Природа начала меняться, часто стали встречаться леса. Город Ртищев. Ходил на базар, купил махорки – дешёвая здесь. Купил за 20 рублей пол-литра молока. Плохо, что денег нет, можно всё достать, не то, что на фронте.
23 мая
Город Балашов. Стоим вторые сутки. Ходили в город, в баню, в парикмахерскую, постирал в речке бельё. Написал в Чертково письма. Начштаба Гольдинер уехал в отпуск в Пензу к своей семье, куда она эвакуировалась из Винницы. Счастливый, вывез свою семью от немцев…
28 мая
Приехали в Тамбов. Выгрузились на ст. Рада. Разместились в лагерях. Лагеря в роскошном сосновом лесу. Громадные сосны, как свечи ровные, поднимаются на 40 метров и выше. Красивый лес, но вокруг болота.
Произошёл интересный случай.
Во время выгрузки из эшелона кто-то сказал, что поймали шпиона. Пошёл с адъютантом Трущенко посмотреть. В служебном помещении начальника станции увидели несколько железнодорожников, уполномоченного особого отдела. Несколько командиров окружили мальчика лет тринадцати-четырнадцати, который всхлипывал и утирал рукавом слёзы. На столе лежала торба и куски угля.
Некоторые внимательно рассматривали уголь. Уполномоченный особого отдела продолжал вести допрос.
Машинист паровоза рассказывал:
– Я стоял на паровозе, когда вижу – возле тендера крутится мальчик с торбой, всё время оглядываясь кругом. Я подумал, что он пришёл воровать уголь, подошёл к нему и говорю: «А ну, пацан, высыпай, много вас здесь шатается, и так не хватает угля» и схватил за торбу. Он начал вырываться. Я вырвал у него торбу и высыпал уголь, но заметил, что уголь не такой, каким мы теперь топим паровозы. Мальчик бросил торбу и начал убегать. Мне показалось что-то подозрительным, погнался за ним, но, наверное, не поймал, если бы не солдаты.
Мальчик во всём сознался.
По его словам, сам он из Смоленской области. Ему пятнадцатый год. Родителей нет. В 1941 году его и много других немцы вывезли в Германию. Его и ещё человек двадцать таких, как он, послали обучаться в школу возле города Магдебурга. Их там хорошо кормили, хорошо одевали, часто водили в кино. Всё время внушали, что России теперь не будет, а будет одна Германия, что они будут большими людьми, инженерами и т.п.
Обучали их больше физкультуре, ездить на велосипеде, плавать, стрелять, а под конец прыгать с парашютом с самолёта.
Учили их там около полутора лет. В последние месяцы им внушали, что они должны, не жалея своей жизни, помогать Германии, что они будут портить паровозы в России, куда их отправят на самолёте.
Перед отправкой их неоднократно предупреждали, что, если они не будут выполнять задания, то их найдут и обязательно убьют. Приводили к ним даже тех людей, которые в тылу красных будут следить за каждым их шагом и, если они «не испортят» хоть одного паровоза, то обязательно убьёт его.
Перед вылетом в тыл Красной армии их одели в поношенную советскую одежду, дали денег, дали по сумке с «углём», инструктировали, как и когда они должны будут бросать «уголь» в тендер паровозов. Переходя с места на место, при разговоре с русскими, должны были говорить, что они беженцы, ходят просить милостыню.
Его немецкий самолёт сбросил ночью, километров за восемьдесят отсюда неделю назад.
На вопрос к нему, бросал ли он уже «уголь» в паровозы, он сказал, что нет – всё не решался, боялся.
Один кусок «угля» взял наш командир батальона проверить его «качество».
Вырыли на лесной поляне в песке ямку, положили туда сухих дров, положили кусок «угля». Дрова подожгли, а сами отошли подальше в сторону. Когда костёр разгорелся, минут через пятнадцать раздался сильный взрыв, вполне достаточный, чтобы взорвать котёл паровоза.
29 мая
Перебрались в город Тамбов. Батальон разместился в двух больших бараках неработающего завода синтетического каучука в конце города.
В каждом бараке было десятка по два приличных чистых комнат. В одном из бараков разместился штаб, санчасть, отдел снабжения и комнаты для командного состава; в другом, построив в два яруса нары, разместились роты.
Я поместился сам в штабной комнате.
Жительницы пригорода, имеющие коров, приносят молоко и другие продукты. Но за нашу месячную зарплату купишь всего 2–3 литра молока.

31 мая
Пошли все в баню, остался в штабе один я. Тоска берет. Не могу в одиночестве сидеть. Где же детки, где жена, где родные – мама, папа, Оля, Маня, Зоя, Лидочка, где мой братик Ваня? Писем ни от кого нет. Сегодня ещё написал всем, попробую послать телеграмму.
14 июня
Всё по-прежнему. С формированием батальона дело не движется. Получили новые штаты, по которым должность старшего писаря упраздняется. Вместо него должен быть зав. делопроизводством, средний командир в звании лейтенанта. Меня представили к этому званию и на аттестацию послали в Приволжский военный округ, не знаю, чем кончится – утвердят или нет.
Теперь наш батальон переформирован в инженерный.
Посадили на третью категорию по продовольствию. Переходить с первой фронтовой категории на третью всем очень не понравилось – очень уж скудное питание.
Ходил в кино, два раза в театр. Ставили пьесу Симонова «Жди меня». Хорошая вещь. Будет ли ждать и ждёт ли моя Тоня, как Лиза, или забыла уже, как Соня?.. Ведь 22 месяца уже прошло, как я ушёл из дома, а ведь ещё война, войне не видно конца и краю…
Сегодня приснился милый, дорогой Юрочка. Вообще, часто стали сниться дети. Как за ними я уже соскучился, скоро ли увижу их и увижу ли вообще когда-нибудь?..
Написал всем родным письма, послал им телеграммы, запросы в адресные столы. Может быть, кто-нибудь ответит на мои частые, но безответные письма.
Скучно, грустно, тяжело на душе…
22 июня
Сегодня два года войны. Перелом в войне в нашу пользу большой, но конца пока что не видно. Немцы по-прежнему занимают огромную территорию. Впереди ещё тяжёлые, жестокие бои.
Получил-таки от Веры ответную телеграмму. Все живы, здоровы, от меня письма получают и мне много пишут. А я ведь ни одного не получил. Муж Веры, Василий Васильевич, оказывается, остался в Кореновской, в Краснодарском крае. Теперь хлопочет о выезде. Муж Валечки, Миша, работает в Омске на заводе, и Валечка с ним. Теперь жду письмо из Чертково, от родных.
5 июля
Получил-таки письмо от папы! Очень и очень был рад! Все живы, а это пока главное. Оля, Маня, Зоя тоже там, в Чертково, Ваня в армии. Дуня, его жена, собирается с детьми переезжать из Архангельска к ним, в Чертково. Лида с мужем выехали куда-то далеко в Сибирь. Семён Семёнович, муж Мани, тоже где-то в Сибири.
Послал им фотокарточку и справку, что нахожусь в армии, и отношение РИК от своей части, чтобы оказали старикам возможное содействие.
Собираемся выезжать. Получили большое пополнение. Все молодые, из Сибири.
Откомандирован адъютант Трущенко. Жалко было расставаться, хороший был хлопец.
7 июля
Пошил, наконец, себе сапоги, чему был очень рад. До чего же очертели эти обмотки. Пошил также фуражку.
Родные не так уж далеко, так хочется поехать к ним в Чертково, но, если скоро будем отправляться на фронт, то поездка эта уже не удастся.
20 июля
Откомандировали всех пожилых возрастов и нездоровых в другие части. Новый штат, новый комбат – из тех, что приехал с сибиряками. С ним несколько новых командиров рот и взводов. Уехал лейтенант Черкасов, что был назначен адъютантом вместо Трущенко. Тоже был хороший товарищ. Меня оставили до утверждения ПРИВО делопроизводителем. Но новому сухому молчаливому комбату я, видно, не понравился, как и он мне. А в роту уже, надо сказать, не хотелось идти, они все молодые, а я им батьком прихожусь.
29 июля
Подал рапорт с просьбой об отпуске к родным в Чертково. Командир разрешил на 6 суток. Сколько радости, просто не верилось, что, наконец, увижу их за столько лет.
30 июля
Выехал на Мичуринск, а оттуда – на Чертково. До чего плохо идёт поезд! Хочется, чтобы он скорее мчался, а он по несколько часов стоит на станциях. Дорога проходит мимо лесов, берёзовых рощ, везде зелень, красивая природа Тамбовской, потом Воронежской областей. Но меня интересует только одно: скорей бы доехать. Уж очень кратковременный отпуск и тот приходится провести в дороге. Пересаживаюсь с пассажирского поезда на военный эшелон, с эшелона – на товарняк, наконец, на паровоз, лишь бы скорей доехать.
2 августа
Приехал в Чертково в 11 часов вечера 1 августа. Зашёл в сельсовет, но и там не знают адреса родных. Пришлось, скрепя сердце, дожидаться до утра в сельсовете. Утром нашёл домик, где живут родные. Папа не узнал меня. Радостная была встреча. Мама пасла коз. Пошёл в степь к ней с Нонной. Не ждала, слёзы…
4 августа
Пошёл в Морозовку к Оле и Зое. Оля тоже не узнала. Послал телеграмму в часть с просьбой продлить отпуск.
7 августа.
Надо выезжать. Как не хочется. Снова военщина, снова подневольным день и ночь.
Попрощался. Маня дала трофейную бритву. Положили мёду, испекли пирожков на дорогу, всё честь честью.
9 августа
Прибыл в часть. Снова началась военная жизнь. За выезд на фронт ничего не слышно.
19 августа
Сегодня исполнилось два года со дня моей мобилизации.
Два года, 24 месяца, как стал я воином, защитником Отечества, как покинул свою семью, своих детей…
Много воды утекло. Многое изменилось за это время.
В прошлом году в этот день мы стояли в Курчалое, загнанные немцем на Кавказ, за Грозный, не уверенные в завтрашнем дне, со слабой надеждой на победу. Тогда мы лихорадочно строили оборонительные рубежи почти на окраине своей страны, а немец ликовал, занимал всё новые и новые города, области, края.
Сегодня же дело иное. Мы имеем возможность отдохнуть, подучиться, чтобы заменить другие действующие части на фронте, и наши войска на сегодня ведут успешное наступление: заняли Белгород, Орёл, Карачев, окружили Харьков. Но бои идут жестокие. Враг очень силён, жесток и упорно сопротивляется, и конца войны пока не видно.
Придётся ещё много и много пережить, много и много ещё прольётся крови.
Получил письмо от Веры. Она прислала карточку Коти, что я фотографировал 9 лет тому назад, когда ему было всего 6 лет.
Где он теперь, мой сыночек?.. Жив ли ещё или может немцы угнали в Германию? Где остальные мои сыночки?..
Ждите, детки, приедет ваш папка или с победой, или совсем не приедет…
Будем надеяться, что разгромим врага и снова увидимся. Ведь это не 1942, а 1943 год.
6 сентября
Однообразно день за днём проходит время. Всё ещё в Тамбове. Идёт уже четвёртый месяц, как мы на отдыхе, на формировании. Роты то занимаются, то работают на строительстве военных и гражданских сооружений. Много приходит всяких гражданских организаций с просьбой взять над ними шефство, помочь повезти машинами дров, отремонтировать здания и пр.
А вечером возле казармы баян, приходят из города девушки, танцы до отбоя.
Я часто хожу в кино. В последний раз был в театре, смотрел постановку «Генерал Брусилов». Но чаще всего вечером сидишь в штабе один. Офицеры вечерами, как правило, уходят в город, завели знакомых, а моё дело стариковское. Кроме театра и кино, никакой охоты идти куда бы то ни было совершенно нет.
Провёл себе радио, достал наушники от миноискателя и теперь, как свободное время, слушаю трансляцию из Москвы. Это моё развлечение.
Но всё же скучно уже здесь, тянет на фронт, туда, где наша славная армия одерживает победу, гонит немцев на запад, где ждут наши семьи, наши дети.
Моё окно выходит на запад. Солнце зашло. Осталось красное зарево в облаках. Часто, часто мой взор обращён туда. Ведь там где-то, где-то далеко на юго-западе Запорожье. Там должны быть мои милые детки. Третий год пошёл уже. Выросли мои хлопцы, живы ли, хотя бы…
8 сентября
Сегодня в 19 ч 30 минут слушал по радио приказ Сталина о взятии нашими войсками города Сталино, об освобождении Донбасса от немецких захватчиков. Слушаю салют из 224 орудий.
21 сентября
Получил письмо от Веры. Собирается переезжать на Кавказ.
Всё чаще и чаще раздаются в Москве залпы орудий – салюты Родины победоносно наступающим войскам.
Только что прослушал приказ о взятии Чернигова.
Вчера наши войска заняли Славгород, перерезали дорогу Запорожье-Синельниково. Вчера наши войска были в 13 километрах от Мелитополя, заняли Большой Токмак, Орехово, Камышеваху, Юльевку. Ту Юльевку, где 18 августа 1941 года я оставил свою семью. Жду с нетерпением сводку за сегодняшний день.
27 сентября
Уже четвёртый день информбюро ничего не сообщает о Запорожском направлении. Жду пол-одиннадцатого вечера каждый день, но всё напрасно. Войска заняли Полтаву, Рославль, Смоленск, а моё Запорожье ещё у немцев. На душе так тревожно. Задержка взятия города даст немцам возможность угнать немцам семью за Днепр, как угоняют они из других мест, а угонят – вернуться ей с детьми трудно будет.

14 октября
Лёг рано спать. Вдруг, сквозь сон слышу по радио тихий, тихий голос (репродуктора не было): «Сегодня в 11 часов важное сообщение».
Встаю, прикладываю к ушам наушники и слышу приказ Верховного Главнокомандующего о взятии нашими войсками города Запорожья.
Трудно передать моё волнение и переживание. Его можно только понять.
Значит, и моя родина освобождена. Теперь вопрос – остались ли они живые.
Как хочется поскорее отсюда уехать. Как было бы хорошо на Южный фронт, там бы скорее узнал о судьбе своей семьи.
15 октября
Наш батальон снова переформирован в 926-й отдельный сапёрный корпусный батальон, с понтонным переправочным парком для форсирования рек.
По новому штату должностей делопроизводителя нет. Меня оставили старшим писарем.
Зарплата старшего сержанта 125 рублей, не хватает на табак. С офицерским доппайком тоже пришлось распрощаться. Ну да всё это пустяки, всё это ничтожно по сравнению с судьбой семьи, что сейчас больше всего меня беспокоит.
Получил сегодня письмо от Оли и Мани. В моём положении хорошее письмо – это наибольшая и, пожалуй, единственная радость.
18 октября
Сегодня написал письма Тоне и детям. От волнения даже руки дрожали… Дойдёт ли до адресата? Так хочется верить, что дойдёт. Теперь с нетерпением буду ждать ответа.
21 ноября
День за днём проходят недели, месяцы. Прошло лето, прошла осень, наступила уже зима, морозы, а мы всё в Тамбове. Надоело уже всё здесь, всем уже хочется на фронт.
В Запорожье уже послал четыре письма, телеграмму, но ответа всё нет. За это время получил только письмо от мамы и от А.В. Дудченко.
14–17 ноября ездил в Воронеж в ОРВО в командировку за канцпринадлежностями и бумагой.
Воронеж – красивый когда-то был город, теперь все дома взорваны, сожжены. Немцы при отступлении хорошо здесь «поработали».
Вчера ходил в кино вместе с новым адъютантом – лейтенантом Погосяном Михаилом Джумшудовичем, прибывшим к нам из госпиталя после ранения. Замечательный человек, армянин по национальности.
3 декабря
Потеплело. Дождь. Непролазная грязь. Тускло на дворе, тускло и на душе. Писем из дому нет.
5 декабря
Какой сегодня счастливый день! Мне прямо не верится, что в моих руках открытка от Коти. Пишет, что все живы, здоровы. Но и всё. Но мне и этого достаточно. Довольно, что они все живы и дома. Сегодняшнюю дату я никогда не забуду.
12 декабря
Получил письмо от Тони. Письмо нехорошее, непонятное. Пишет о каких-то обидах, о каких-то сплетнях. Пишет, что вскорости после моей мобилизации ей кто-то сообщил, что я убит.
15 декабря
Выехали в село Тулиновку на учёбу. Роты строят в лесу мосты через реку, заграждения и прочее. Проходим учебную стрельбу из разного оружия.
17 декабря
Тихий морозный день. Выпал снег. Пошёл со старшиной первой роты, земляком Котенко, в лес на охоту с винтовками. Побродили по лесу, любовался величественным сосновым бором. Не видели ни одного зайца. Напали на лежбище лосей, пошли по следам, но, очевидно, они далеко успели уйти.
Получил первое письмо от Вани*. Пишет, что он в армии, собирается выезжать на фронт.
_________________________
*) Младший брат Иван Максимович Цапко, интернированный на Север, в Архангельске был призван в в/ч , оборонявшую Ленинград где, не прослужив и месяца уже в январе погиб.
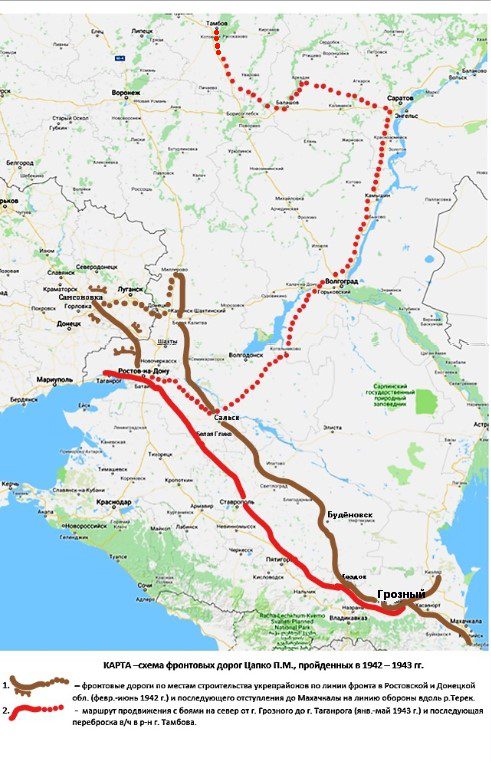
1944 ГОД
Здравствуй, Новый Год!
Хорош был сорок третий! Год побед. Никогда его не забудешь. Пусть же сорок четвёртый будет годом окончательного разгрома проклятых немцев, годом окончания войны.
Одно у всех желание – встретить сорок пятый уже в кругу своей семьи, своих детей, близких, родных.
Выпьем же за ещё лучший 1944 год!
25 января
Часто в жизни бывают огорчения, но такой иронии судьбы, как случилась сегодня со мной, редко бывает. Сегодня, преодолевая все препятствия, мне удалось выпросить отпуск на 15 дней в Запорожье, к родным.
Приготовил все документы, отпускной билет, литер на проезд по железной дороге. Осталось получить продукты, которые я хотел повезти домой своим деткам, и можно было уже идти на вокзал. Я уже мечтал, как приеду домой, как приголублю своих деток, как обниму своих крошек. Но какой-то злой рок не дал осуществиться моим мечтам. Связной Смахтин (чёрт бы его забрал) приносит пакет литер «К» (только командиру части) – приказ нашему батальону выбыть на фронт.
Мы долго ждали этого дня. Восемь месяцев ждали. Но нужно же было прийти ему тогда, когда я должен был выехать в отпуск! Обидно. Чертовски обидно.
Весь день ходил как чёрная ночь.
– Ничего, старшинка, не журись: в жизни, что ни делается, всё к лучшему.
На душе стало веселей, когда я узнал, что едем на юг, на Днепропетровск, на Кривой Рог, а соседний батальон – даже на Запорожье. Есть маленькая надежда как-нибудь оттуда, с фронта, удастся взять хоть пару дней отпуска и съездить домой, ведь там же близко.

2 февраля
Подали вагоны. Железнодорожная линия проходила возле самых бараков, где мы жили. Начали грузиться, забираем всё.
Разместились в вагоны. Тихий зимний вечер. Ярко сияет луна в морозном небе, снег блестит серебром. Многие выпивши, слышны песни. Многие обзавелись подругами. Есть среди нас и тамбовчане, их пришли провожать семьи.
Минуты прощания, последние поцелуи. Смех, слёзы… Горечь разлуки и маленькая надежда снова встретиться. Всё переплелось…
Поезд тронулся.
И грустно, что меня некому провожать, и радостно, что едешь на фронт, где больше шансов потерять голову, чем остаться живым, едем на юг, ближе к своим милым пределам…
Едем снова на фронт!
Прощай, Тамбов!
4 февраля
Станция Кочетовка. Поезд долго стоит на месте. В нашем штабном вагоне лейтенант Погосян, командиры рот Соколов, Минаев, Шевченко, капитан Норкин, зав. клубом капитан Токарев, лейтенант Ярков, нач. артснабжения ст. лейтенант Зевакин, начфин ст. лейтенант Курочкин, ординарцы, связной Смахтин. Догнал и мой помощник, весёлый тульский паренёк, сержант Шведов, ездивший в Воронеж.
Дюков и Ярков замечательно играют на гитаре и так же хорошо поют, развлекают, не дают скучать.
В вагоне тепло, а снаружи воет ветер, поднимается зимняя вьюга, мороз.
8 февраля
Наш поезд идет на Миллерово. Значит, будем в Чертково. Но долго ли будем на станции, успею ли я сходить к родным, застану ли всех дома? Эти вопросы так меня тревожили, что я не спал всю ночь.

9 февраля
В Чертково приехали утром. Только остановился эшелон, я соскочил и побежал на Будённовский №28.
– Бабушка! Дядя Пава! – увидев меня, вскрикнула Нонна.
Дома я застал папу, маму, Нонну. Маня была на работе, и за ней пошла Нонна. Родные были рады, что я забежал проститься. Ведь, может быть, в последний раз. Папа, да и мама совсем слабые, а работать нужно.
Мама угостила обедом, сварила мне десятка два яичек, а папа дал на дорогу табаку. Жаль, что не пришлось увидеть Олю и Зою.
Была грязь, и провожать пошла только Марусенька. Хотел позвонить Зое в МТС, но подошёл паровоз, и, простившись с сестрой, уехали дальше.
10 февраля
От Миллерово поезд почти без остановок мчит на запад, только мелькают столбы, будки, станции.
Час ночи. Станция Чаплино. Не могу уснуть. Родные, знакомые места. Скоро Синельниково, а оттуда всего 70 километров до Запорожья. Быть так близко и не побывать дома, хотя бы один час… Обидно. Пишу письма Тоне, Коте. Бросил в почтовый ящик в Днепропетровске. В Нижнеднепровске стоим несколько часов. Я хорошо знал этот город с большим заводом. Теперь же не осталось ни одной постройки, ни одного домика.
Через Днепр проезжали по недавно кое-как сколоченному мосту, который скрипел и дрожал при проходе поезда.
11 февраля.
Приехали на станцию Лошкарёвка. Выгрузились, ночуем под открытым небом. Дождь, холод, сыро. Отвыкли уже от этой жизни. Надо привыкать снова, ничего не поделаешь.
14 февраля
Стоим третий день в разваленном сарае села Лошкарёвка. Пошёл снег, ударил мороз.
18 февраля
Село Красное. Вслед за наступающими стрелковыми частями вступили в Апостолово. Немец оставил много тяжёлых орудий, до тысячи автомашин, но почти все испорченные.
22 февраля
Пришли в посёлок Ворошиловка. Фронт в трёх километрах. Идут сильные бои. Орудийный гул, трескотня пулемётов не смолкает ни днём, ни ночью. Приступили к выполнению боевых заданий, большей частью по разминированию.
23 февраля
Убиты Будаев, Кононов, повар узбек Арыков. Ранено шесть человек. Первые наши потери. Тяжело хоронить товарищей, с которыми прожито столько времени вместе, которые ещё недавно ехали с нами в поезде, шутили, пели песни, просили покурить.
2 марта
Распустило невероятно. Грязь, размешанная тысячами ног, тысячами колёс, была буквально по колено. Местами с трудом вытягиваешь ноги.
Войска по-прежнему, с упорными боями, шаг за шагом продвигаются вперёд. Заняли большое село Широкое на реке Ингул. За рекой враг сильно укрепился, и продвижение немного задержалось. Живём в Широком у одного селянина. Хозяйка исключительно хорошая женщина. Нас человек 15, но она и наварит, и испечёт, и молока даже иногда даст, бельё постирает. Чувствуется украинское гостеприимство.
12 марта
Село Ново-Юрьевка. Видать город Н.-Буг, занятый немцами. В селе нас несколько раз жестоко бомбила немецкая авиация.
Мы с начштаба Гольдинером шли в расположение роты. Впереди нас, метрах в десяти, шли майор и три бойца стрелковой части. Неожиданно выскочили из-за посадки, почти на бреющем полёте, два немецких самолёта и сбросили бомбы. Мы еле успели лечь на землю. Взрывной волной нас оглушило, фуражки посрывало, шедших впереди майора и одного бойца убило наповал.
13 марта
Подходим к селу Ново-Сергеевка. Осталось километра полтора. В селе слышны отдельные винтовочные и автоматные выстрелы. Вдруг, видим, с запада летят, довольно высоко, 13 немецких самолётов. Прямо на нас. Командир батальона приказал всем рассыпаться и лечь. Самолёты развернулись.
– Ну, сейчас будет жарко! – сказал кто-то. Поле было ровное, ни канавки, ни ямочки. Сердце защемило. Но вместо ожидаемой бомбёжки самолёты начали сбрасывать на парашютах десант, как нам показалось. Подали команду расстреливать в воздухе. Все приготовились. Когда же парашюты спустились ниже, к нашему удивлению, оказалось, что это не десантники, а контейнеры. Самолёты улетели, мы – к парашютам. В контейнерах оказались снаряды, патроны, мины к миномётам, ручные гранаты, медикаменты, некоторое продовольствие. То, что пригодится, положили на повозки, нарвали шёлковых портянок из парашютов и быстро двинулись в село.
Оказалось, что немецкое командование просчиталось: думало своим войскам подбросить подкрепление, а попало к нам. Мы потом узнали, что это повторилось уже третий раз на нашем участке фронта. Враг потерял связь со своими частями.
Когда вошли в Ново-Сергеевку, то увидели на улицах много убитых коров, целое стадо. Жители сказали, что немцы ушли с час тому назад и перед уходом убили стадо коров, которое не могли угнать.
Был уже вечер, и решили переночевать в селе. В некоторых сёлах немцы перед уходом устанавливали мины с замедленным действием, поэтому, во избежание всяких случайностей, во всех домах, где остановились, сделали тщательную проверку.
В этих местах, как мы узнали, вновь сформированная после Сталинграда шестая немецкая армия – Херсонская группировка – окружена и по частям уничтожается. Наши и немецкие части здесь перемешались в полном смысле этого слова.
14 марта
Подошли к реке Ингул. Начали строить узкий, для пехоты, штурмовой мост. Немец успел уже отойти, и эту работу провели за один час, спокойно, без потерь.
Перешли Ингул. Зашли в село Большую Ингулку. Почти в каждом доме лежит покойник. Оказывается, немцы перед отступлением вывели из села и расстреляли 150 мужчин. Мерзавцы…

24 марта
Движемся все на Запад. Грязь невозможная. Идут дожди, и дорога не просыхает. Растеряли по дороге машины, конный транспорт тоже отстал.
28 марта
Новая Одесса. Третий день, как подошли к Южному Бугу. Немцы на противоположном высоком берегу; мы – на левом, пологом. Только одна стрелковая рота перебралась на тот берег и зарылась в ямках недалеко от берега.
Наступать дальше нельзя было, так как орудия наши завязли в грязи, а для пробившихся нескольких танков нужна была переправа. Южный Буг здесь глубокий и до шестидесяти метров ширины. Наш батальон получил задание срочно навести переправу для танков. Конечно, легче всего было установить понтоны, но машины с ними застряли километрах в пятидесяти от Новой Одессы.
Начали вязать плоты, используя всякий лесоматериал, какой можно было достать на месте.
Строили три дня, и всякий раз он разбивался артиллерийским огнём. Немец видел как на ладони нашу переправу и прямой наводкой безбожно бил из орудий. Бил не только днём, но и ночью. Уже 9 человек убито со второй и третьей роты, очень много ранено, два утонуло. Но что за ночь успевали сделать, утром он снова разрушал. Сапёры выбились из сил. Положение было тяжёлое.

29 марта
Переправу строили в полутора километрах от Новой Одессы. Домик, в котором поместился штаб, был на самом краю города, возле шоссейной дороги, тянувшейся по направлению к переправе, почти возле самой реки. И наш домик, и дорога прекрасно простреливались немцами. На дороге было уже убито много бойцов, лошадей, много повозок. Проходить, проезжать можно было только ночью. Пройти днём ещё можно было, согнувшись, за низкой насыпью в кювете, но, как раз посередине протекала речушка, а надо было подниматься и переходить по мостику, метров двадцать длиной. На этом месте немец обычно и накрывал. Сегодня утром мы из окна видели, как со стороны переправы верхом на лошади ехал всадник, удивлялись его неосторожности. Вдруг, недалеко от него взрыв, всадник свалился с лошади, а испуганная лошадь прибежала в Новую Одессу. Всадник – политрук из стрелковой роты – был убит наповал, а лошадь оказалась невредимой.
После обеда заходит в нашу комнату командир батальона.
– Где посыльный? Надо немедленно передать Соколову распоряжение.
– Смахтин на переправе, – ответил начштаба.
– Тогда пошлите кого-нибудь другого.
Кроме меня и начштаба близко никого не было.
– Разрешите мне пойти, – сказал я.
– Идите, только смотрите осторожно на мостике, – ответил комбат.
Начштаба посмотрел на меня.
– Пониже пригибайтесь в кювете, а на мостике, сколько есть силы бегом.
– Знаю, – сказал я.
Он пожал мне руку.
Взяв распоряжение, пригибаясь в кювете, я быстро стал приближаться к мостику. Я прекрасно знал, что немецкое орудие точно наведено на мостик и наблюдатель внимательно следит, когда кто-то появится на нём.
Вот и мостик.
Идти, согнувшись, тяжело, и я прилёг отдохнуть.
Сердце билось учащённо. Удастся ли проскочить? Или накроет, гад?..
Срываюсь, вскочил на мостик и бегом.
И через две-три секунды слышу противный шелест снаряда. Прятаться в кювете уже поздно. Я упал на шоссе и прижался к холодному камню. В ту же секунду раздался взрыв, осколки просвистели над головой. Снаряд разорвался на другой стороне мостика.
Я моментально вскочил и бегом что было мочи вперёд. Уже почти добежал до места, где разорвался снаряд, слышу опять проклятый вой. Теперь, думаю, всё – накроет… Я едва успел упасть в горячую ещё воронку, как раздался второй взрыв. Но немец, видно, немного просчитался, и снаряд упал теперь по ту сторону мостика, где я несколько секунд тому назад лежал. Самое опасное место я проскочил. Я снова быстро поднялся и под прикрытием насыпи, которая здесь была немножко выше, побежал, пригибаясь к земле.
Через несколько минут разорвался снаряд метрах в двухстах впереди меня, но я уже не стал обращать внимание, так как кювет здесь был более глубокий, и убить меня могло только при прямом попадании.
Сапёры, отдыхавшие после тяжёлой и опасной работы, лежали на соломе в разбитом маленьком сарайчике. Медсестра Таня перевязывала стонавших от боли раненых Верёвкина и Друзенко. Возле печурки сушились шинели, портянки, сапоги. Было очень тесно.
Я подошёл к ст. лейтенанту Соколову и отдал распоряжение комбата.
Посидели, поговорили, покурили. Соколов, с которым мы в одной части ещё с Кавказского фронта, вспоминал некоторые события, которые нам вместе пришлось переживать.
Я собирался возвращаться.
– Куда тебя чёрт понесёт! – сказал он. – Если сюда удачно проскочил, так думаешь, что он тебя и обратно не накроет? Подожди, скоро стемнеет, пойдём вместе. Я послушался его вполне разумного совета, и в сумраке вечера мы спокойно вернулись в город.
– Ну, старшина, счастливо ты отделался. Мы видели в окно, как за тобой немец охотился. Я, откровенно говоря, боялся за тебя, – улыбаясь, встретил нас Гольдинер.
– Он хитрый, немца перехитрил, молодец, – добавил, смеясь, адъютант Погосян.
30 марта
Комбат приказал, чтобы возле домика, в котором мы находились, по возможности, меньше было хождений, которые могли привлечь внимание немецких артиллеристов. Но людей было много, обязательно кто-нибудь выйдет, кто-нибудь зайдёт, что, в конце концов, привлекло внимание немецких наблюдателей.
Я сидел за столом, напротив окна.
Неожиданно раздался сильный взрыв, домик весь задрожал, меня что-то ударило в лицо и отбросило на середину комнаты. Я открыл глаза: рама окна лежала разбитая рядом, кругом мелкие осколки стекла. Почувствовал боль в виске. Пощупал висок рукой – вся рука была в крови. Вскочил находившийся в другой комнате Погосян.
– Ты что, ранен, старшина? – встревожено спросил он, поднимая меня. – У тебя всё лицо в крови!
– Нет, как будто бы, сильной боли не чувствую, – ответил ему.
– Быстрей в погреб! – потащил он меня за собой.
Едва вскочили мы в погреб, снова раздался взрыв за домиком. Снаряд дал перелёт. Разорвалось ещё пять-шесть снарядов, но уже дальше.
Когда прекратился обстрел, мы вошли в домик. Всё моё лицо, вся гимнастёрка были в крови. Мелкие осколки стекла поцарапали лицо, нос, уши. На виске синела шишка от удара оконной рамы.
Я вымыл лицо, Погосян смазал ранки йодом и забинтовал.
На противоположной от окна стенке комнаты – следы осколков снаряда, пролетевшие немного выше и правее моей головы, где я сидел во время взрыва снаряда.
Вошли комбат и замполит капитан Деребизов. Узнав в чём дело, Деребизов засмеялся и сказал:
– Ну и везёт же тебе, старшина! Вчера счастливо отделался, и сегодня смерть испугалась тебя. Честное слово, до Берлина дойдёшь!
– Смотрите не сглазьте, товарищ капитан, – отвечаю ему, – а до Берлина ещё далеко.
Действительно, мне повезло. Снаряд разорвался в трёх метрах от окна, но немножко левее, и это спасло меня.
31 марта
Наконец навели переправу, перешли наши танки, пехота; немец отошёл от реки, и наступление продолжилось дальше. Батальону приказано выступить вслед за передним эшелоном войск.
Меня командировали с ездовым за 70 километров от Новой Одессы назад за штабным имуществом, оставленным с автомашинами. Как это неприятно – возвращаться обратно! Но ничего не поделаешь, надо ехать.
4 апреля
Вернулись в Новую Одессу. Грязь непролазная, дождь, снег, как будто бы не весна, а вернулась снова зима. Сыро, холодно, снег бьёт в лицо. Батальон за это время, говорят, ушёл уже километров за 80–100 вперёд. Как мы догоним его – ещё трудно представляю себе, к тому же мост на Буге поломался.
Настроение чертовски скверное.
Писем с декабря месяца из дома не получаю. Обидно делается, ведь другие и здесь часто получают, а мне не пишут.
Радует только то, что наши войска заняли Николаев, Черновцы, подошли к Одессе, и немец, хотя и сопротивляется, но отступает на всех фронтах.
Достал на мельнице килограммов 400 муки. Снабжения никакого, все базы отстали, и для нас это большое подспорье, голодать не будем.
7 апреля
Отъехали от Новой Одессы на 45 километров. Лошади еле тянут подводы. Проезжаем немецкие колонии. Жителей не осталось ни одного. Остановились на ночлег в одном доме. Немцы здесь жили очень хорошо, но все ушли с отступающими войсками, побросав всё имущество. Все чердаки полны зерном, в погребах много картофеля. Сегодня спал на никелированной кровати, шинель висела в роскошном шифоньере, топим печку стульями.
Убегайте, сволочи, узнаете и вы, что такое война. Так и надо. И я вспомнил стихотворение:
Десять винтовок на весь батальон,
В каждой винтовке последний патрон.
В рваных шинелях, в разбитых лаптях,
Били мы немцев на разных фронтах.
Всю Украину он грабил и жёг,
Так что за немцем остался должок.
Час подошёл, наступила пора
Вам рассчитаться, бандитам, сполна.
Танки и пушки фашистов громят.
Лётчики наши на запад летят.
Подлого Гитлера чёрная власть
Крутится, вертится, хочет упасть.
25 апреля
Все эти дни, хотя и медленно, но всё же продвигался вперёд к Одессе. 10 апреля наши войска после незначительного сопротивления врага, заняли Одессу. Я в этот день догнал свой батальон в пригороде. Штаб батальона помещался вместе со штабом нашего корпуса.
Снова нас Одесса примет как хозяев,
Звёзды Черноморья будут нам сверкать.

Одесса, действительно, приняла нас, как хозяев. Ни один город, освобождённый нами, так радостно нас не встречал, как Одесса. Горячие приветствия, радостные возгласы, крепкие пожатия рук, поцелуи. Счастливые, радостные у всех лица. Бойцов, командиров приглашали в дома, угощали, чем только можно было, давали вина. Просто неудобно было грязным, обросшим за длинные переходы ложиться в любезно предоставленные чистые кровати.
Одесса, переименованная румынами в Антонеску, была передана немцами румынам. Румыны не обдирали население, как немцы, неплохое, по военному времени, было снабжение населения продуктами и товарами, так что одесситы жили, можно сказать, неплохо. Поэтому, хотя и много было нас в городе, но все были отлично и накормлены, и напоены.
Сейчас стоим уже почти две недели на берегу Днестра в селе Маяки. На том берегу в плавнях идут жестокие бои. Наше село и переправа, которую строят наши роты, ежедневно подвергаются сильной бомбёжке. Опять раненые, опять убитые.
Сегодня наши войска продвинулись немного вперёд и заняли село Паланки, сильно укреплённый пункт на правой стороне Днестра. Думаем, что теперь продвижение вперёд пройдёт быстро.
Вчера получил письмо от Тони, а позавчера – от Коти. Письма невесёлые. Живут впроголодь и не во что одеться. Но что я могу сделать, чем могу помочь, когда денег у меня тоже нет, а посылок не принимают?..
2 мая
В три часа дня выступили походным маршем из селения Страсбурга по направлению Тирасполя. Подул сильный ветер с севера, резкий, холодный. Пошёл дождь. Дальше – больше. Грязь вязкая, липкая. Все утомились до невозможности, так как, ко всему, надо было идти против ураганного ветра и бьющего в лицо дождя.
Ночью пришли в одно село, но в нём уже везде битком набито. Все мокрые до нитки, а о том, чтобы где-нибудь обсушиться, не было и разговора.
С большим трудом втиснулся в одну комнатку и стал возле дверей у стенки. В комнатке, плотно прижавшись друг к другу, стояло человек сто бойцов, молчали и зло посматривали на троих офицеров, которые согнувшись, такие же, как и все мы, утомлённые жутким переходом, дремали, то и дело, просыпаясь, на узенькой скамеечке.
Возле меня, в пролёте дверей, стоял худенький, видно совсем ослабший боец и время от времени слабо стонал. Никто на него не обращал внимания. Через некоторое время он утих совсем и, сдавленный по бокам, медленно начал опускаться. Он уже был мёртв, но никто не хотел выносить его на улицу, так как знал, что обратно в комнату уже не залезешь и придётся оставаться на дворе под ураганным дождём, ветром и холодом.
Кое-как достояли до утра, а утром – та же самая проклятая погода…
Мокрые, не отдохнувшие, снова пошли вперёд.
За ночь, только в одной дивизии замёрзло одиннадцать человек. И это второго мая, в Молдавии! Если бы об этом где-нибудь сказали мне – сам бы не поверил.
Упорно говорили, что немцы пустили особый газ или порошок, который так сильно охлаждает воздух. Но это, конечно, чепуха, просто пришёл необыкновенно сильный циклон с сильным пронизывающим дождём.
Только к полудню ветер утих, показалось солнышко, согревшее нас, и мы стали забывать прошедшие кошмарные сутки.
4 мая
Стоим возле села Славяносербка в немецком хуторе. Отсюда предполагается наступление на Бендеры. Говорят, немец превратил этот город в крепость с глубоко эшелонированной обороной.
Ходил днём на охоту на зайцев.
Выпили с адъютантом Погосяном полтора литра хорошего вина.
8 мая
Перешли Днестр возле села Ташлык. Здесь наша армия занимает небольшой плацдарм – километров 6 в длину и километров 4–5 вглубь. Остановились в лесу и нешироких здесь плавнях. Километрах в двух, на возвышенности – передовая, где в окопах закрепился немец. Наши противотанковые орудия стоят тоже на возвышенности в полукилометре от нас. Землянки свои мы вырыли под склоном крутого берега под защитой склона.
Стоит тихая погода. На фронте затишье, подтягиваются резервы, боевая техника. Очевидно, готовимся к наступлению.
Подошёл к переправе. В это время на двух соединённых вместе плотах переправляли тяжёлые танки «КВ». Два переправили благополучно. На плот взошёл третий танк. Из открытого переднего люка за рулём сидел молодой танкист, Герой Советского Союза. Плот уже почти подошёл к нашему берегу, и вдруг сломался пополам… Молодой герой вместе с танком пошёл на дно. Берег здесь был очень глубокий, спасти было нельзя. Не в открытом бою, а в водах холодного Днестра закончилась жизнь смелого танкиста…
8 мая
Рядом с нашей землянкой большое мелкое озеро. Над водой кое-где выступает трава. Сижу возле высоких верб, любуюсь тихим озером, зелёной травкой. Вдруг увидел, что в некоторых местах трава начала шевелиться. Я разделся, взял карабин и в одних кальсонах и рубашке осторожно начал пробираться к траве. Вижу: то подымается, то опускается снова в воду спина большой рыбы, метрах в трёх от меня. Взял на прицел немного ниже и выстрелил. Через минуту на поверхность воды выплыл большой, килограммов на 12, короп . Минут за двадцать я убил четыре коропа, пудов до трёх весом.
Увидев мою удачную охоту, некоторые сапёры тоже влезли в воду и тоже убили несколько коропов.
Рыбу я отдал на кухню, и вечером мы в кругу товарищей покушали жирной ухи с молдавским вином.
9 мая
Прочли приказ Правительства о награждении участников обороны Кавказа медалями «За оборону Кавказа». Составил список, затребовали медали. Нас набралось в батальоне 124 человека. Приятно будет получить медаль. Честно её заработали там.

13 мая
Пишу уже в степи, в открытом поле, километрах в пяти от Днестра.
10 мая в три часа утра немец начал наступать большими силами, задавшись целью сбросить наш плацдарм в Днестр. Весь участок, занимаемый нами на правом берегу, подвергся ожесточённому артиллерийскому обстрелу. Большое количество авиации наносило удары с воздуха. Нашей авиации не было. К вечеру отступили с возвышенного плато в плавни. Двенадцать раз немцы шли в атаку, пехоту поддерживали две танковые дивизии, около тысячи танков. Самолёты беспрерывно бомбардировали наши пушки, передовую линию, переправу. Более 50 налётов сделали за день. Дрожала земля. Отдельные разрывы снарядов, бомб, мин слились в сплошной гул. Пули беспрерывно свистели над нашими головами.
Положение наше стало критическим. Хотя и прилетела наша авиация, но было уже поздно. Наши войска храбро защищались. Необыкновенное мужество проявили артиллеристы, которые бились до последнего снаряда и почти все полегли в неравном бою.
Отдельные стрелки стали отходить к переправе, началась паника – самое страшное в такой момент.
Начштаба приказал мне вынуть из ящиков все дела штаба, отдельно связать секретную переписку и книгу личного состава и идти к берегу на переправу. Я выполнил приказание и, стараясь прятаться от пуль за большие деревья, пошёл к берегу.
Ещё вчера по наведённому нами мосту беспрерывным потоком двигались на правый берег пушки, обозы, машины, танки, проходили группы солдат, а сегодня всё это, только в беспорядке, в давке, наезжая один на другого, с выражением страха в глазах, криками, понукиваниями, с безбожной руганью – всё это спешило на левый берег с мыслью спастись от неминуемой гибели.
Уже несколько секций понтонного моста было уничтожено немецкими бомбами, а с ними пошли на дно реки люди, лошади, машины. Взамен подводили немедленно новые, запасные понтоны.
Пеших через мост никого не пропускали, старались в первую очередь спасти технику. Возле берега скопилось огромное количество раненых. Они просили, умоляли переправить на другую сторону, но с полдюжины резиновых надувных лодок нашего батальона не успевали перевозить снова и снова подходивших бойцов.
Бледные, окровавленные, они просили хоть перевязать им раны, но перевязочных материалов не было. Нельзя было смотреть спокойно в их полные тоски глаза. Я вспомнил, что у меня в полевой сумке было ещё чистое полотенце. Разорвал его на три части и сделал перевязку свежих ран одному на груди, другому – ногу, третьему – плечо.
– Спасибо, старшинка, – сказали они.
Они не завидовали мне, что я ещё здоровый, не раненный, как они. Они знали, что через минуту и меня может постигнуть та же участь.
Многие слабо раненые, боясь, что их не успеют перевезти, бросались в реку вплавь, но, ослабевшие, не доплывали на другую сторону и шли на дно.
Страшная была картина. Я знал, что никогда её не забуду.
Приказа об отступлении пехоты не было, но к берегу всё больше и больше начало подходить с линии огня пехотинцев. На приказ командиров возвращаться обратно многие не обращали внимания. Стоявший возле переправы генерал, очевидно, командир дивизии, приказал вызвать заградотряд. Вскорости появилось человек 20 автоматчиков. Два бойца, бросившие оружие и, несмотря на приказ, всё же пробовавшие пробраться на переправу, по приказанию генерала тут же были расстреляны.
Бойцы снова ушли на линию огня, хотя, надо сказать, бой шёл уже в лесу; на расстоянии не более одного километра или и того меньше свистели пули, беспрерывно рвались снаряды и бомбы вражеской авиации.
Я сразу мог бы переправиться на другой берег, тем более, что переправляли наши сапёры, а начальник штаба строго приказал мне сохранить в целости при любых условиях секретные документы. Однако хладнокровно смотреть на раненых, которые с такой мольбой упрашивали перевезти их на тот берег, я не мог, и несколько часов помогал грузить на лодки тех, кто сам уже без помощи не мог сесть в лодку.
Только под вечер младший лейтенант Смаль, перевозивший с другими сапёрами раненых, передал распоряжение адъютанта немедленно переправить документы, находящиеся при мне.
Едва мы переправились, снова налетели бомбардировщики и спикировали на нас. Я отбежал метров на пятнадцать и лёг между небольшими камнями у колодца. Раздалось рядом несколько взрывов, осколки просвистели над головой. Я поднялся. Смаль и ещё два сапёра лежали, распростёрши руки. Я подбежал к ним. У Смаля с лица и груди лилась кровь. Сердце уже не билось…
Бедный Вася!.. Страшно тяжело мне было смотреть на мёртвое тело своего прекрасного товарища, который ещё минуту назад был живой, как всегда шутил, смеялся.
Почти мальчишка – ему было всего 20 лет, всегда весёлый, никогда не унывал, любил петь песни, шутил, давал читать или сам читал письма от своей матери и от невесты, такие добрые, такие ласковые, задушевные… Не читать тебе больше этих хороших материнских писем, и она больше никогда не дождётся от тебя ответа…
Сердце от боли сжималось у меня… Он всегда был безрассудно смелым, но на этот раз никому не нужное проявление храбрости погубило его. Когда начали пикировать самолёты, он свободно мог бы успеть спрятаться в почти рядом выкопанный окопчик, но он этого не сделал и поплатился за это жизнью.
Я, ездовой Самофалов и ещё три сапёра, лодку которых разбило бомбой, выкопали под высокой вербой могилу и похоронили своих товарищей. Все плакали…
Остановились на ночь в селе, в километре от переправы.
Жестокий бой на небольшом клочке по ту сторону Днестра продолжается днём и ночью. Сталинградцы говорят, что такие жестокие бои были только под Сталинградом.
Утром 12 мая мне сказали, что ранен осколком снаряда в живот старшина третьей роты, мой земляк из Куйбышевского района Котенко. Где он сейчас, никто не знает.
Я велел запрячь подводу, и мы с Рыжковым поехали в ближайший к месту расположения третьей роты медпункт, находившийся почти возле берега и всё время обстреливаемый немцами. Медпункт свернулся уже к эвакуации. На мой запрос военфельдшер сказал, что утром сегодня похоронили во дворе под деревом старшину, раненого осколком в бок. Фамилии его почему-то не могли найти в списках. Остались часы, которые кто-то забрал. Я знал, что у него часы были. По всем данным, это был Котенко.
Мы с Рыжковым пошли к могиле, сняли фуражки, простились с товарищем.
На обратном пути, хотя всё время и старались ехать за хатами, за деревьями, чтоб не заметил немец, обстреливавший из миномётов и орудий с той стороны Днестра все проезжавшие подводы, машины, группы людей, но всё же не убереглись. Разорвался недалеко снаряд, и осколком перебило лошади ногу. Лошадь упала и застонала от боли. Пристрелив раненую лошадь, приказал ездовому ехать на одной, а сам пошёл пешком.
По ту сторону Днестра остались наши походные кухни, часть обоза. Почти все понтоны и надувные лодки были уничтожены при бомбёжке. Дивизия с приданным к ней артиллерийским полком и танковыми частями понесла огромные потери. В одном только нашем батальоне, пострадавшем, пожалуй, меньше всего, убито и ранено 47 человек.
Никогда не забуду бой на Днестре…
Оставаться в селе дальше нельзя было, и дали приказ выехать в степь за пять километров.
15 мая
Получил печальное письмо от мамы. Пишет, что Ваня убит ещё в январе под Ленинградом.
Бедняжка, в жизни не везло, и ту проклятые немцы отняли. А ведь когда-то думали встретиться ещё вместе. Не пришлось. Спи, родной братик… Один был брат, и того не стало. Будем мстить за вас, всех погибших. Жаль Дуню, жаль маленьких ещё детей.
Но надо жить, чтобы победить врага и кровью за кровь отомстить за муки, за слёзы бедных жён, матерей…
Ездил в медсанбат, находившийся километрах в семи от нас, выяснить, нет ли случайно Котенко там. Я имел, хотя и очень маленькую, надежду, что похоронен был не Котенко, а, может быть, кто-то другой, а его отправили раненого в госпиталь. Пересмотрел человек пятьсот раненых, человек тридцать уже умерших, но ещё не похороненных, но среди и тех, и других его не было. У меня тогда уже не было сомнения, что Котенко умер и похоронен в селе возле Днестра.
На его родину в военкомат написали официальное извещение, что он «пропал без вести». Я же, как ни горько было писать его жене, написал честно, что он убит и чтобы не ждали дети больше своего папку…
9 июня
Находимся в глубоком овраге, километрах в 20 от Днестра. Овраг покрыт высокой травой, густым дубовым лесом. Вырыли землянки, но живём снаружи, на свежем воздухе. От фронта далеко, слышен только артиллерийский гул.
Спокойно здесь, занимаемся военным и сапёрным искусством. Получили пополнение переправочного парка обозом, не пополнили только людьми. Неважно с питанием – одна только кукуруза.
Есть указание всей нашей армии переехать на Белорусский или какой-то другой фронт, точно ещё неизвестно – военная тайна. Не хочется покидать юг и ехать в болота кормить комаров.
Написал письма Коте, Севе, Юре. Получил письмо и от Тони, от мамы. Родные долго не получали моих писем, беспокоились за меня. Почта плохо работает.
Открылся второй фронт на западе. Это даёт надежду, что всё же скорей будет конец этой проклятой войне… С интересом читаем в газетах сообщения о военных действиях наших союзников на Западе.
14 июня
Станция Весёлый Кут. Грузимся в эшелон. Покидаем 3-й Украинский фронт. Переезжает вся 80-я Гвардейская Армия.
Ночью проехали Одессу.
17 июня
Подъезжаем к станции Знаменка. Направления не знаем. В вагоне нашем свободно. Скучно. Поют песни, но всё это так надоело. Целыми днями спим. Написал письма домой.

20 июня
Проехали Фастово. Утром 19-го были в Житомире. Сегодня переехали реку Случ и прибыли в город Сарны, Ковельской области. Здесь уже Западная Украина.
Начиная от Житомира кругом леса и болота, болота и леса. Редко увидишь кусок песчаной земли, засеянной чахлой рожью. Много комаров. Нигде не видно горизонта за лесом. Все станционные постройки, все мосты и мостики сожжены отступавшими врагами и всё это снова построено временно, наспех, на живую нитку.
Железнодорожники рассказывают, что при немцах в лесах было много партизан. Днём на железной дороге хозяевами были немцы, а ночью – партизаны. Через каждые сто метров железнодорожных путей стояли немецкие солдаты, но партизаны часто снимали их, взрывали пути, пускали под откос эшелоны. А сейчас линия подвергается частым налётам немецкой авиации. Очень много по бокам линии свежих воронок от взорвавшихся бомб.
Метров на сто от железнодорожной линии лес вырублен немцами, чтобы партизаны не смогли подходить незаметно. Каждую станцию, каждый мостик немцы окружили окопами, проволочными заграждениями, дзотами, превратили в настоящие крепости от партизан, но часто и это всё не помогало.
Осталось километров 70–80 пути, а там близко и Ковель – фронт. Придётся воевать теперь в лесах, болотах. Кому, как не сапёрам, придётся здесь поработать. Не очень приятная перспектива.
5 июля
20 июня выгрузились на ст. Сарны, откуда пошли километра за три в дремучий лес, где построили себе удобные, просторные землянки. Строить эти сооружения мы научились очень быстро, а леса кругом было сколько хочешь, выбирай любое дерево.
Время проходит скучновато, работы не так много. Привозят кинопередвижку, но фильмы все старые, кроме того, обычно сеанс раз 5–6 прерывается из-за воздушной тревоги – ночью немецкие самолёты часто налетают.
В лесу много черники, но ягода неважная, кисель из неё хорош был бы, но нет крахмала.
Ходил вчера с начфином Василием Ивановичем в деревню, но ничего не купили. Овощей нет, даже огурцов нигде не увидишь. О фруктах и баштанах даже и не знают здесь. Чёрт знает, что это за край!
Писем из дома не получаю, даже обидно. На фронте успехи хорошие, заняли уже Минск, Полоцк. На днях должны и мы выступить на фронт.
8 июля
Пятого июля вечером батальон ушёл по направлению Ковеля. Я со штабом и автотранспортом выехал шестого утром. Дорога скверная: всё пески, леса, болота. На болотистых местах настил на дороге из брёвен, но брёвна во многих местах выворотили танки, и особенно наша легковая трофейная немецкая машина на низком шасси то и дело застревала. Часто приходилось вытаскивать. Хотя и неприятное это занятие, но всё же ехать на машине куда лучше, чем идти по пескам 130 километров. Только под Ковелем, километров за тридцать, встретилось прекрасное шоссе, обсаженное липами и стройными тополями.
Встретили одно местечко дворов на 800. Видно, хорошее было, но осталось всего не более сотни домов, остальные сожжены.
В пути мы узнали, что наши войска позавчера взяли Ковель. Действительно, подъезжая к Ковелю, увидели за лесом на горизонте большие столбы дыма. Отступая из Ковеля, немец взорвал и поджёг почти все здания.
Беспрерывно бьёт артиллерия, вереницей тянутся на запад наши штурмовики, везя немцу тяжёлые бомбы. Немец с боем отступает.
Мы нагнали свой батальон почти на полпути и остановились в лесу в 9 километрах от Ковеля. Очевидно, здесь подождём нашу армию и вместе со стрелковыми частями двинемся на передовую.

12 июля
Обошли город Ковель и остановились километрах в 15 на запад от города. Здесь, за много месяцев до этого немец соорудил сильно укреплённую оборонительную линию. Идёт подготовка к прорыву этой обороны и дальнейшему наступлению.
17 июля
Получили совершенно секретное письмо, что ночью будет артподготовка, а утром наши войска должны будут прорвать немецкую оборону.
Все эти дни, главным образом, ночами к нам подтягивались артиллерия, главным образом, лёгкая, противотанковая, танки, самоходные пушки. Средняя и тяжёлая артиллерия маскировалась в километре-двух за нами. От передовой было километра полтора. Возле каждого орудия подвезён солидный запас снарядов. Видно, дело предстоит серьёзное.
Хотя приказ о наступлении и не был оглашён, но о предстоящем наступлении знали все: и наш батальон, и артиллеристы, и пехота. У всех были серьёзные, настороженные и, пожалуй, тревожные лица.
Все писали домой письма, может быть, последние. Написал и я родным, детям.
18 июля
Вечером командир батальона созвал командиров рот, взводов, политруков и рассказал о предстоящей операции, о заданиях, которые должны будут выполнить наши сапёры. Всё это, конечно, было им согласовано раньше в штабах корпуса и дивизии. В конце он сказал:
– Кроме того, мы должны будем провести ещё одно задание, которое до этого не проделывали. Как вы знаете, на нашем участке между нашими и немецкими окопами всего триста-четыреста метров. Немецкую передовую линию сразу начнёт бомбить наша авиация, но в темноте ей трудно будет ориентироваться: бомбы может сбросить или на свои окопы, что, как вам известно, уже бывало, или в тыл немцам, что также не входит в их задание. Поэтому необходимо установить ориентиры между нашими и немецкими окопами. Ориентирами будут служить установленные магниевые фонари. Как их устанавливать – инструкцию вы уже все имеете. Подберите более опытных сапёров, желательно из тех, что раньше минировали передовую. Задание очень ответственное и от успешного его выполнения будет зависеть очень многое. Понятно, товарищи?
– Понятно, – ответили некоторые командиры.
– Ну, тогда выполняйте.
Он подал всем руку, пожелал успеха, некоторые начали расходиться.
Командир третьей роты ст. лейтенант Соколов, с которым у меня сложились самые дружественные отношения ещё с Кавказского фронта, когда я находился в его роте, подошёл ко мне и, смеясь, сказал:
– Что, старшина, может, вместе пойдём, не забыл ещё Матвеев Курган под Таганрогом?
– Нет, Цапко пусть остаётся уж здесь, для него хватит работы и в штабе, – полушутя-полусерьёзно сказал начштаба.
Я вспомнил письмо мамы про гибель Вани, клятву отомстить, когда хоронили Васю Смаля, и обратился к начштаба:
– Товарищ капитан! Разрешите и мне пойти со старшим лейтенантом.
– Я ведь пошутил, старшина, – сказал Соколов, – обойдёмся и без тебя.
– Вы пошутили, а я говорю серьёзно, – ответил ему. – У меня, вы знаете, личные счёты с немцем, а тут в штабе я не скоро рассчитаюсь, – тоже полушутя-полусерьёзно добавил я.
– Вы глупости говорите, старшина. Каждый на своём месте своё дело делает. Выходит, что и без меня, без начальника штаба, можно обойтись. А к тому же вас медкомиссия признала негодным к строевой службе, вот и выполняйте своё дело, что вам поручено.
Ясно, что после всех этих разговоров, моё самолюбие уже не позволило отступить мне от моего решения.
– Отпустите, товарищ капитан, – снова сказал я Гольдинеру.
– Ну, раз вы так настаиваете, я не возражаю, а вы, старший лейтенант, отвечать будете за старшину, – шутя, сказал он Соколову.
Я передал Шведову ключи от железного ящика с секретной перепиской и печатями, все свои документы, пожал всем руки и ушёл в расположение роты с Соколовым.
Шли лесом с полкилометра. Везде танки, орудия, ближе к передовой – пехота. Изредка пролетают снаряды. Было часов 11 ночи.
Когда мы пришли в расположение роты, Соколов вызвал человек 15 опытных сапёров, младших командиров и начал проводить инструктаж – в чём заключается наше задание. В руках у него был магниевый фонарь, который представлял собой металлическую продолговатую коробку, наполненную особым веществом, в которое входит и магний, дающий при горении яркий свет. Он объяснил, что состав горит медленно, около двух часов. К коробке присоединён бикфордов шнур, но особенный – горит тоже медленно, рассчитанный на полчаса, т.е. фонарь начнёт освещать ровно через полчаса после того, как будет зажжён шнур.
Наша задача будет заключаться в том, чтобы незаметно ползком пробраться на середину между нашими и немецкими окопами, вырыть ямку полметра глубиной, установить в неё фонарь и зажечь шнур, и немедленно убраться в свои окопы.
– Задача простая, не то, что возиться с миной, главное, чтобы немец не убил, – улыбнувшись, закончил Соколов.
Каждый из нас получил по одному фонарю, по пехотинской лопаточке, по две зажигалки и, на всякий случай, по коробке спичек, которые приказано применять только в крайнем случае. Приступить к выполнению задания мы должны в 1 час 10 минут, а бикфордов шнур на фонаре должны зажечь в 1 час 30 минут.
В окопы передовой линии мы пришли в 12 часов ночи. Зашли в небольшой блиндажик командира стрелковой роты. Он уже знал о нашем задании, поэтому без долгих разговоров договорился с Соколовым о порядке действий. Меня со своим командиром взвода оставил в своём блиндаже, а сам с Соколовым и остальной группой сапёров пошли по окопу вправо, расставлять по одному в намеченных местах.
В блиндаже, освещённом слабым огоньком коптилки, сидело два офицера-пехотинца и человек шесть бойцов. Начали осматривать магниевый фонарь. Я им подробно объяснял, причём давал пояснения с такой уверенностью, как будто бы всю войну только и имел с ним дело.
– Вот наш разведчик Дубов, – указал на белявого парнишку командир взвода, – поведёт вас на место установки фонаря. Он не раз уже лазил к немцам, знает каждый кустик.
Затем надел на мою голову свою железную каску.
– Если пуля в лоб попадёт – всё равно пробьёт, а если косо, то отскочит. Защита небольшая, ну, на всякий случай не помешает.
Затем, посмотрел на часы и сказал:
– Пошли. Пора уже.
Вышли из блиндажа. В окопах было много солдат. Никто не спал. Потихоньку беседовали, курили в рукав. Все знали, что через несколько часов они пойдут в атаку и что многим из них, может, придётся сложить здесь голову.
Время от времени то с нашей, то с вражеской стороны раздастся выстрел, пролетит снаряд, свистнет пулька, взлетит в небо осветительная ракета.
Ровно в час ноль-ноль с нашей стороны прекратили пускать ракеты и стрельбу.
Осталось десять минут.
Не раз уже мне приходилось пробираться в темноте к немецким окопам при минировании, разминировании. У меня уже не было той боязни, страха, который я, как, наверное, и всякий, ощущал поначалу, но всё же нервы были напряжены, и я прилагал усилия казаться совершенно спокойным, каким должен быть всякий старый солдат, тем более с нашивками старшины. Ночь, к счастью, была тёмная, но всё же по направлению немецких окопов, метров на сто, сквозь темноту просматривались какие-то бугорки, кустики.
В десять минут второго из окопа выполз Дубов, а за ним и я с вещевым мешком на плечах, в котором находился магниевый фонарь и плащ-палатка.
Расчёт был такой: за десять минут добраться до места установки фонаря, а это примерно 200 метров, и за десять минут установить фонарь и зажечь шнур.
Самое опасное было то, что немец может в течение этих 20 минут пустить в гору осветительную ракету и заметить нас.
Дубов, видно, по привычке, быстро полз вперёд, и я еле успевал за ним. Чем дальше, тем он чаще и чаще останавливался, прислушивался, присматривался вперёд и по сторонам. Низко над нами просвистело несколько пуль автоматной очереди. Мы прижались к земле, но через полминуты снова поползли. Наконец, мы приползли к кустику не то лозы, не то бурьяна. Дубов обернулся, махнул мне рукой, а сам пополз за кустик наблюдать.
Возле самого кустика, который до некоторой степени прикрывал от немецких окопов, я быстро стал рыть лопаткой ямку. Земля была песчаная, и дело продвигалось быстро. Минут за пять-шесть я вырыл ямку, глубиной с полметра, установил фонарь, подполз к Дубову и толкнул его за ногу. Мы вернулись к ямке. Я вынул зажигалку и спички, наклонился над ней, а он быстро, как было договорено раньше, накрыл меня вдвое сложенной плащ-палаткой, чтоб не видно было огня.
По моим расчётам, двадцать минут уже прошло с того времени, как мы оставили окопы, и я зажёг бикфордов шнур. Он тлел почти незаметным огоньком. Снял плащ-палатку и указал на тлеющий шнур Дубову, чтобы и тот убедился, что задание выполнено. В этот момент почти напротив нас с немецких окопов начала подниматься в гору осветительная ракета. Мы прижались к земле. Наше счастье было то, что мы находились за кустиком, и немец не заметил нас.
Быстро поползли обратно. Довольные, счастливые, что задание выполнено, мы спустились в окоп. Доложил командиру взвода о выполнении задания, возвратил ему каску.
– Теперь она уже вам будет нужна, от всей души желаю, чтобы все пули летели не прямо в лоб, а наискось, – пошутил я.
Минут через десять подошёл комроты Соколов и остальные сапёры, и мы ходами сообщения быстро направились в расположение третьей роты, а оттуда я пошёл в расположение штаба своего батальона, вдвоём с командиром взвода Анохиным.
Было ровно два часа. Из нашего тыла по направлению к нам послышался слабый, а потом быстро усиливающийся гул моторов. Эскадрилья за эскадрильей, непрерывным потоком летели наши бомбардировщики, и через несколько минут в стороне немецких окопов, где полчаса тому назад мы устанавливали для этих бомбардировщиков ориентиры, раздались оглушительные взрывы. Огненные фонтаны поднимались один за другим по всей линии фронта, где намечено сделать прорыв в немецкой обороне.
Вернувшись в штаб батальона, лейтенант Анохин отрапортовал начальнику штаба об успешном, без потерь, выполнении нашего задания.
– Вернулся, старшинка, – обрадовался мне Коля Шведов, – ну как, не страшно было? – как всегда с весёлой улыбкой скороговоркой спросил он меня.
– Ничего там страшного нет, – стараясь казаться совершенно равнодушным, ответил ему. – Следующий раз ты уже пойдёшь, – добавил я.
– Точно, в другой раз я тебя не пущу, сам пойду – я ж ещё не был.
– Если ещё тебя возьмут, – пошутил я.
Два часа беспрерывно, волна за волной шли наши бомбардировщики и сбрасывали смертоносный груз на немецкие окопы.
Ровно в четыре часа улетел последний самолёт и… заговорил «Бог войны» – наша артиллерия.
Много месяцев я уже был на разных фронтах, много пришлось за эти три года видеть и слышать, но такого ураганного артиллерийского огня не видел ни разу.
Многие сотни орудий разных калибров за четыре часа выпустили десятки тысяч снарядов на сравнительно небольшом участке фронта. Отдельные выстрелы были слышны только из ближайших орудий, а из находившихся дальше – слились в один несмолкаемый, страшный гул, стон. Над головой почти беспрерывно шелестели снаряды нашей тяжёлой артиллерии.
Дрожала земля. Ветра не было, но листья трепетали.
Сердце радовалось от мысли, что каждый снаряд несёт смерть проклятому врагу, мщение за погибших наших людей, за слёзы матерей.
В восемь часов утра наша пехота пошла в атаку. В первой линии окопов сопротивления почти не было, всё было разрушено и уничтожено нашими бомбами и снарядами, но во второй и третьей линии немец оказывал довольно значительное сопротивление, и рядом стоявший санбат за два часа наполнился ранеными.
В 12 часов вслед за наступающей пехотой выступили и мы. Проходили теми местами, где два часа назад сидели ещё немцы. Вся местность изрыта нашими снарядами и бомбами.
На плашку:
Мне надолго запомнится следующая картина.
Большая поляна среди леса, покрытая яркими-яркими дикими цветами. Здесь и красные полевые маки, и белая ромашка, и голубые васильки, и синий шалфей, и много-много других прекрасных цветов. Какой-то огромный, волшебный ковёр. Природа наградила эту поляну необыкновенной красотой. Всё цвело, жило. И вот, среди этой поляны, во многих местах лежат трупы, стонут ещё не подобранные раненые, видны воронки от снарядов, сбитые осколками снарядов и ещё не увядшие головки красных маков. Как ярко выражен здесь глубокий контраст между жизнью и смертью!..
Вечером остановились в одном украинском селе возле Западного Буга.
Вот и дошли до границы Польши!

Дошли до того места, откуда немец три года тому назад, 22 июня, вероломно напал на нашу Родину. Каждый с гордостью и радостью думает, что выгнали, наконец, подлого немца с Русской земли.
Хозяева дома, где мы остановились, рады нашему приходу, рассказывали нам, как немцы несколько часов тому назад, уходя, говорили: «Идут русь, нам капут!»
Угощали нас варёной картошкой (больше у них ничего не осталось – всё забрали немцы).
Где-то достали пол-литра, и наш баянист Павка Бахарев под аккомпанемент баяна на мотив «Огонька» запел такую родную, такую близкую нам песню:
Не столы настоящие
Украшают наш дом,
На снарядные ящики
Мы газету кладём.
По сто грамм нам положенных –
Фронтовой наш паёк.
Есть тут банка порожняя,
Наливай-ка, дружок!
За страну Белорусскую
Выпьем этот бокал,
С той заморской закускою,
Что союзник прислал.
За землянку уютную,
Фонаря огонёк,
За машину попутную,
Если путь твой далёк.
За родного товарища,
С кем шагаешь сквозь дым,
С кем всегда укрываешься
Полушубком одним.
За далёкую ласточку,
Что тоскует и ждёт,
Чья весёлая карточка
С нами в битву идёт.
Выпьем весело сразу мы,
Не поморщась, до дна,
Тостов много уж сказано,
Жаль, что чарка одна.
За счастливое будущее
Не последнюю пьём,
За победу грядущую,
Что добудем с огнём.
Передали по телефону – наши роты навели мосты через Западный Буг. Река форсирована.
Хотя немецкие штурмовики и летают над головами, бросают бомбы, но все крепко уснули. Один я, завесив плащ-палаткой окно, пользуясь огоньком лампы, склонившись над столом, записываю в дневник сегодняшние свои переживания.
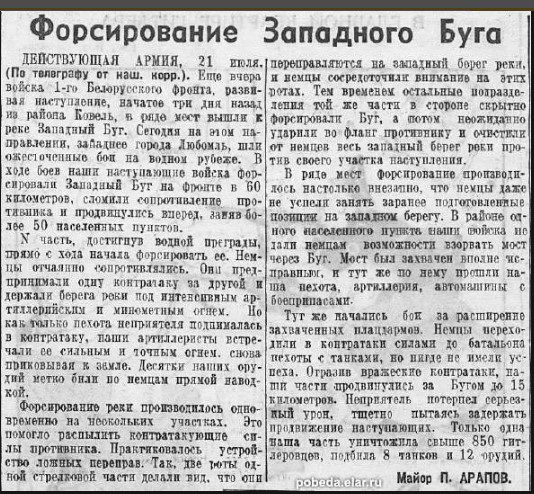
19 июля
Перешли Западный Буг.
Мы уже в Польше.
20 июля
Еду машиной со штабным имуществом. Дорога забита нашей техникой – орудиями, танками, автотранспортом. Дороги плохие, часто встречаются болотистые речки. Наши сапёры, измученные беспрерывной работой, не успевают строить взорванные немцем мосты.
Пошёл дождь, промок. Вечером остановились в лесу. Чувствую себя плохо.
22 июля
У меня воспаление лёгких. Наш батальонный врач, капитан медицинской службы грузин Мтиолишвили, находившийся около двух лет в немецком плену, откуда бежал к партизанам, после чего попал в наш батальон после освобождения Белоруссии, дал мне какие-то немецкого производства таблетки, порошки, а сам ушёл вместе с батальоном. Остался я и шофёр с автомашиной, на которой находились резиновые надувные, требующие ремонта лодки.
Идёт дождь, сыро. Шофёр помог мне натянуть маленький шатёр из плащ-палатки, нарвали травы.
У меня высокая температура. Сквозь дырявую палатку капают на горячее лицо капли дождя, холодный ветер продувает с боков.
23 июля
Чувствую себя исключительно плохо. Третий день ничего не брал в рот, кроме лекарства. Грудь сильно болит, дыхание тяжёлое, сильный жар. Земля сырая, подостлать нечем, всё мокро от этого проклятого дождя. У меня появились уже сомнения, что выдержу эту болезнь. Писать уже не мог, записал шофёр Дегтярёв. Попросил его, если помру, дневник чтоб передал Шведову, а тот чтоб отослал моей семье.
24 июля
К вечеру стало немного лучше, Дегтярёв положил меня на автомашину, и мы поехали догонять свой батальон.
25 июля
Стало лучше. Выпил сваренный в котелке чай.
Если бы дома пришлось болеть воспалением лёгких в таких условиях, то наверняка бы не выдержал. Я болел им уже раза два или три раньше. Врач приказывал – две недели не выходить из комнаты, питаться мёдом, молоком, куриным бульоном и прочей ерундой. А здесь, на фронте, эту же болезнь пришлось перенести на дворе, почти под открытым небом, на сырой земле, да ещё под моросящим дождём, безо всякого ухода, без наблюдения врача.
Прямо-таки удивительно. Конечно, важную роль в моём выздоровлении сыграли, очевидно, и таблетки, данные мне врачом Мтиолишвили. А вообще, надо сказать, на фронте люди редко болеют.
27 июля
Догнали батальон. Проходим через польские сёла, городки. Население встречает радостно, с цветами. Каждый старается предложить папироску, табачку или кусок пирога, яичко.
Въезжаем в большой польский город Люблин. Только что выбили немецкий гарнизон. Везде на улице трупы. Ведут очень много пленных. Все здоровые, как буйволы, германцы. Попадаются и наши – изменники – власовцы.

29 июля
Стоим два дня в местечке Михново. Городок чистенький, неразрушенный. Поляки жили здесь, видно, неплохо, зажиточно, культурно.
Принесли ребята трофейные конфеты, консервы, мёду, папирос, вина.
Я начал уже кушать, появился аппетит. Чувствую уже себя довольно хорошо, болит только ещё в груди. Температуры уже нет.
– Можете себя считать здоровым, Павел Максимович, – сказал мне Мтиолишвили после того, как добросовестно осмотрел и выслушал меня.
– До Берлина болеть категорически запрещаю, – добавил он.
30 июля
Идём на Варшаву, до которой осталось 70 километров. До реки Вислы – 20 километров
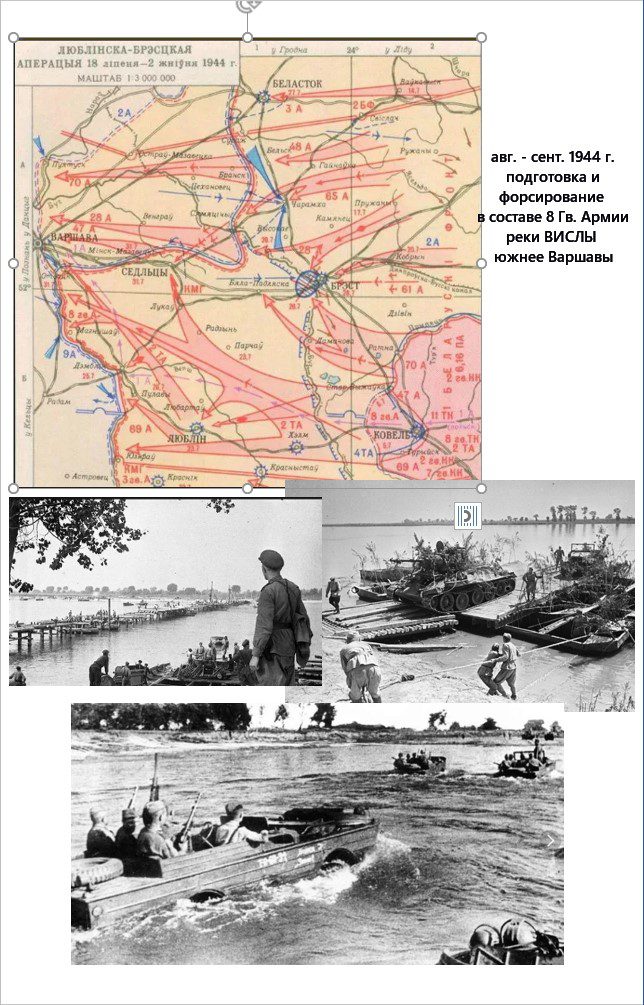
31 июля
Повернули налево, к Висле.
Я не приступал ещё к своим обязанностям, исполнял их Шведов, который был в курсе всех секретных распоряжений. Он сказал мне, что завтра будем форсировать Вислу.
До сего времени первыми форсировать такую широкую реку как Висла нам ещё не приходилось. Форсирование широких рек обычно связано с большими трудностями, с большими жертвами, поэтому требует от командования большого военного искусства, опыта, решительности и смелости. Гордостью наполнилась душа, что на нашу долю выпало участвовать в такой военной операции.
А многим ли удастся из нас перебраться на ту сторону?.. Но эту мысль я старался отогнать от себя, не думать о ней.
Впереди выстрелов не было слышно, немец оторвался и отступал без боя.
Пересекли возле станции Соболево железную дорогу Варшава-Люблин. Скоро и Висла, которую поляки любят так же, как украинцы свой Днепр, а русские – Волгу.
Часов двенадцать ночи. По дороге много движется танков, пушек, пехоты. Кругом лес, местами поля, польские домики.
Ни одного выстрела, что всех нас удивляет. Разведка донесла, что последние немцы переправились на лодках на ту сторону часа два назад.
Приказано всем частям соблюдать полную тишину, не зажигать костров. Танки, автомашины остановились километрах в трёх-четырёх, не доходя до реки. К Висле подошла только пехота, миномётные подразделения, наш батальон со всеми переправочными средствами и несколько сапёрных рот стрелковых полков.
Между деревьями показалась, наконец, широкая река. Противоположного берега почти не было видно. Стояла тихая погода. Только вдали справа были слышны отдельные винтовочные выстрелы.
Когда я подошёл к берегу с лейтенантом Погосяном, там уже шла лихорадочная работа. Наша первая и вторая роты и сапёрные подразделения стрелковых полков быстро снимали с автомашин понтоны, фанерные, деревянные, резиновые лодки, вёсла, смазывали уключины, чтоб не скрипели вёсла; всё это, стараясь соблюдать тишину, без лишних разговоров, подносили к берегу реки.
Наши командиры отдавали короткие, чёткие распоряжения, которые немедленно же выполнялись. Под дамбой, возле высокой вербы строим КП (командный пункт) и НП (наблюдательный пункт), устанавливаем стереотрубы, накрываем сверху брёвнами.
Всё делалось очень быстро, слаженно, чувствовалось, что не впервые, опытными руками. Батальон связи тянул провода.
Под деревом стояло несколько генералов и много офицеров, наш комбат и начштаба Гольдинер.
Генералы и офицеры совещались о наиболее удобном месте высадки десанта и времени начала форсирования.
Все соглашались с тем, что успех операции будет зависеть от быстроты действий и незаметного подхода нашего десанта.
К двум часам ночи всё уже было подготовлено. На воде возле берега стояло около тридцати лодок, которые могли вместить до двух взводов пехоты. Возле каждой лодки по три-четыре сапёра, которые должны будут перевозить десант. Моторы к лодкам не устанавливали, чтобы избежать шума.
К утру на реке стал падать редкий туман. Один из генералов от удовольствия начал потирать руки – туман даст возможность незаметно подобраться к тому берегу.
Началась погрузка десантников. В каждую лодку село по три, по пять, по десять бойцов с автоматами, гранатами, полными сумками запасных обойм, продовольствия на два дня. На носу больших лодок установлены пулемёты, с таким расчётом, что огонь можно вести прямо с лодок. На трёх или четырёх лодках установлены сумки с телефонными аппаратами и катушки изолированных проводов, которые будут протянуты через реку.
К большой лодке, на которой сидело два офицера, человек семь автоматчиков и четыре сапёра с вёслами, подошёл генерал.
– Ну, с Богом, товарищи, – тихо сказал он.
Всем командирам-десантникам был дан приказ: если удастся добраться на ту сторону незаметно, не поднимать стрельбы, ждать переброски следующей группы.
Лодки, одна за другой, начали отчаливать от берега. Передние лодки уже скрылись в пелене тумана, другие же только начали отходить от берега.
Чувствовалось, что и у тех, кто отправлялся на ту сторону, и у тех, кто их провожал, нервы сильно были напряжены…
Отчалила последняя лодка. Одни командиры напряжённо прислушивались к звукам с реки, другие отдавали всевозможные распоряжения.
– Связь готова с батареями? – услышал я вопрос генерала к полковнику, очевидно командиру артиллерийского полка.
– Готовы три провода и три запасных, товарищ генерал, – ответил полковник.
– Надо рассредоточить РС («Катюши»), чтоб не накрыли сразу.
– Приказание уже отдано, товарищ генерал, – снова ответил полковник.
Сапёры в это время неутомимо, без передышки делали укрытия, копали за дамбой и возле самого берега рвы, тащили откуда-то брёвна, делали перекрытия. Все знали, что скоро и здесь начнут рваться снаряды, мины, а может, налетят и бомбардировщики. Надо предусмотреть всё, надо всё сделать, чтобы избежать лишних потерь.
В это время с той стороны берега послышалась короткая автоматная очередь.
– Началось, – тихо сказал генерал.
Некоторые офицеры засуетились. Все напряжённо ждали этого момента, но, как будто бы, настало это неожиданно.
Однако минут пять-шесть снова было тихо. Потом снова послышалось насколько очередей. Дальше всё чаще. Затрещал пулемёт, раздались взрывы гранат.
Из КП подбежал к генералу капитан.
– Товарищ генерал! Говорит левый берег. На косе сняли немецкий дозор. Немцы, видно, совсем не ожидали. Бойцы быстро рассредоточивались влево и вправо над дамбой.
Генерал и ещё несколько офицеров пошли в КП.
Начало светать. С реки показалась быстро приближающаяся лодка. Через пару минут – вторая, а затем ещё несколько штук.
Быстро началась погрузка следующей группы.
Гребцы тяжело дышали от напряжённой работы.
– Замените гребцов запасными, – приказал начальник инженерных войск корпуса полковник Степанов.
Я подошёл к вышедшему из лодки нашему сапёру 2-й роты Дигоеву, вытиравшему с лица пот рукавом гимнастёрки.
– Ну, как? – быстро спросил его.
– Порядок. Там островок возле берега. Мы незаметно подошли к нему. В стороне на косе стоял немец. Лейтенант подлез к нему ближе и снял автоматом. Все быстро выгрузились, а мы сразу обратно.
Снова начали подходить порожние лодки. Свободных сапёров уже не было, а те, что делали укрытия, тоже выбились уже из сил, и прибывшие на следующих лодках гребцы снова должны были плыть на ту сторону.
– Товарищ лейтенант, – обратился пожилой сапёр из первой роты Сидорчук к начальнику нашего понтонного парка, – уберите, пожалуйста, Никишина, он нихрена грести не умеет.
Я взял у Никишина автомат и сказал лейтенанту, что за него поеду я.
– А ты грести умеешь? – спросил меня тот.
– Я же на Днепре вырос, – с обиженным самолюбием ответил ему.
В лодку сел сержант и пять бойцов, лицами в носовую сторону.
На той стороне разгорался бой.
Всё больше стало рассветать, а туман, к несчастью, стал подниматься. Напротив нас уже хорошо был виден берег. Видны были частые вспышки автоматов, снопы огня разорвавшихся гранат. Река широкая. Мы напрягаем все силы, чтоб скорей добраться. Мы хорошо знали, что с боков, где берег ещё не занят нашими десантниками, немец, как только увидит нас, откроет по лодкам огонь изо всех видов оружия.
У некоторых молодых бойцов бледные лица.
Как не волноваться?..
Я время от времени мерял веслом глубину реки. Уже проплыли больше половины, но глубина не превышала одного метра.
Я быстро стал уставать. Всё слабей и слабей стал нажимать на весло. Теперь я почувствовал, насколько я потерял здоровье во время недавней болезни.
Уже почти доплывали к берегу, когда сзади послышались глухие взрывы.
Туман почти рассеялся, стало совсем светло. За нами в разных местах шло с десяток лодок, по которым бил немец не то из орудий, не то из миномётов.
С разгона лодка выскочила на пологий песчаный берег, на котором лежали два бойца. У одного была ранена нога, а у другого вся голова была повязана бинтами, сквозь которые сочилась кровь.
Бойцы быстро выскочили из лодки, а мы положили раненых на дно лодки и столкнули в воду. Раненный в ногу боец сказал, что рана нетяжёлая, пулевая в мякоть и чувствует себя пока неплохо, а раненный в голову был очень бледный, сильно стонал.
Едва мы отошли от берега, подошла другая лодка, на которой сидело человек десять бойцов. Метрах в двадцати ещё шла большая лодка. В это время с немецкой стороны застучал длинной очередью пулемёт. Пули то свистели над головой, то близко падали возле лодки. Почти поравнявшись со встречной лодкой, услышал стон и увидел, как один боец свалился на дно лодки. Две пули пробили корму нашей лодки, но, к счастью, выше уровня воды.
Впереди же вокруг переполненных бойцами лодок всё время подымались высокие фонтаны воды и раздавались глухие взрывы. Я направил лодку немного в сторону, левей, по течению реки.
Вдруг раздался взрыв, а за ним крики и стоны людей.
Снаряд попал в лодку, плывшую нам навстречу, метрах в тридцати справа.
Некоторые, видно убитые, а может быть, тяжело раненные, сразу пошли на дно, другие цеплялись за обломки лодок.
Я сразу направил лодку к утопавшим и через две-три минуты вытащил их к себе. В это время снова, почти рядом, взвился фонтан, облил всех водой, лодку сильно закачало.
Сняли мы с обломков лодки только четырёх человек – раненого сапёра Девяткина, двух раненых бойцов и одного стрелка, к его счастью, оставшегося невредимым.
Мы были в этот момент на глубоком фарватере реки. Я понимал, что если разобьёт здесь и нашу лодку, то кто и останется живой и не умеет плавать, всё равно потонет.
– Нажимай изо всех сил! – крикнул я гребцам и сам сколько было мочи заработал стерном. Страх перед видимой смертью, поджидавшей со всех сторон, придал нам снова силы, и мы быстро наискось, вниз по течению поплыли к своему берегу.
Мы плыли уже метрах в двухстах от линии переправы, как увидели снова высокий фонтан возле лодки. Снова послышались крики людей. Но здесь уже было неглубоко – люди стояли по пояс в воде. Через несколько минут подошла разгрузившаяся уже лодка и подобрала раненых, а некоторые побрели обратно.
Уже оставалось нам метров 150–200 от берега, когда слева с западного берега застрочил пулемёт и пули то свистели над головами, то шлёпались вокруг лодки. Страшно стало. На земле маленький бугорок, маленькая ямка уже являются надёжной защитой от пуль, а на воде – никуда не спрячешься.
Вдруг гребец, сапёр сибиряк Махов, вскрикнул и опустил в воду весло, поднял к правому плечу левую руку.
– Ранило, – слабо застонал он.
Пуля пробила ему плечо.
– Быстро подними весло, садись на его место! – приказал я бойцу, который не был ранен. Тот поднял весло, помог пересесть на своё место Махову, а сам принялся грести.
Пули продолжали сыпаться вокруг лодки. Послышалось несколько ударов в лодку, и почти сразу из четырёх пробоин потекла фонтанчиками вода.
Я бросил раненым бойцам свои портянки, так как сапоги снял, на всякий случай, ещё на той стороне.
– Затыкайте! Пилоткой можно. А то если гад не убьёт, так затонем.
Три дырки заткнули, а из четвёртой продолжала течь вода. Но до берега уже было близко, и мы, выбиваясь из последних сил, подошли к нему. Пулемёт уже по нам не стрелял. Нас встретило несколько сапёров, санитары, подобравшие раненых.
Я взял сапоги, пошатываясь и еле передвигая ноги, пошёл в блиндаж за дамбой.
Вскоре подошли начартснабжения Зевакин и командир взвода Загвоздкин.
– Ты что, ранен, старшина? – участливо спросил меня Зевакин. – На тебе лица нет, бледный, как стенка.
Я чувствовал себя действительно очень плохо от чрезмерной потери сил, а отчасти и от пережитого за этот час.
– Нет, не ранен. Просто после болезни ещё не поправился. От перенапряжения.
– Ну, ты, честное слово, молодец, ей-богу, молодец, – снова проговорил своим густым басом не отличавшийся храбростью Зевакин.
– Идите в расположение штаба батальона. Гольдинер ругает тебя, что без его разрешения поехал на ту сторону.
– Пусть ругает, – безразлично ответил я.
Немцы усиленно обстреливали этот берег, стараясь помешать переправе. Было уже несколько убито и много ранено пехотинцев и сапёров. Тяжело был ранен один полковник и несколько офицеров.
Через час прекратили дальнейшую переправу десантников, так как много лодок было уже уничтожено, а часть повреждена и требовала ремонта. Их переносили за дамбу, в укрытие, и там чинили. Говорили, что недалеко стоит новый понтонный парк и с наступлением темноты начнут переправлять пушки и танки.
Наш десант занял уже на той стороне плацдарм более двух километров по берегу и больше километра в глубину.
Наша артиллерия с этой стороны успешно помогает десантникам уничтожать оборону противника.
Говорили, что форсирование реки прошло очень удачно и с гораздо меньшими потерями, чем предполагало командование. Теперь предстоит не меньшая задача – удержаться на плацдарме и расширить его.
Немного отдохнув, я потихоньку пошёл в хуторок, где поместился наш штаб. Лейтенант Погосян и Коля Шведов, довольные моим благополучным возвращением, подробно меня расспрашивали, как мы перевозили десант.
– Я тебе и забыл сказать, старшинка, что, когда ты болел, тебя представили к награде медалью за участие в Ковельском прорыве, – сказал мне Шведов.
– А за форсирование Вислы и орден получит. Обязательно, – сказал Погосян.
– Орден, конечно, лучше, чем крест деревянный или покормить собой рыбу, – ответил им, – а теперь буду отдыхать.
Адъютант приказал ординарцу Оганесяну принести мне из кухни покушать, который быстро справился и принёс мне в котелке завтрак. Немного похлебав, я лёг в стодоле на сено и постарался уснуть. Но сон был неспокойный, часто просыпался – не то от гула нашей артиллерии, не то от пережитого.
7 августа
Наши войска расширили плацдарм в глубину до 12 километров и примерно столько же в ширину. Но враг упорно сопротивляется. Пленные рассказывают, что Гитлер приказал во что бы то ни стало сбросить нас в Вислу. Положение наших войск тяжёлое. Враг имеет большое преимущество в артиллерии, танках. У нас же часто не хватает снарядов. В некоторых местах он потеснил наши полки. Подразделения каждый день тают, а пополнений мало. Наши роты минируют передний край, но мин мало.
За форсирование Вислы многих наших сапёров и командиров представили к правительственным наградам. Я представлен к ордену Отечественной войны II степени.
12 августа
Продолжаются жестокие бои за плацдарм. Немец подтянул резервы, бросает по 80–100 танков в контратаку по несколько раз в день. Десятки его самолётов пикируют на нашу переправу. Линия фронта меняется с переменным успехом, но всё же наш плацдарм, занятый в первые дни, в основном, остаётся в наших руках.
Вот стихотворение Долматовского, написанное им, когда он приезжал на наш участок фронта, так замечательно отражающее действительность.
БИТВА НА ВИСЛЕ
Тёмные тучи нависли,
Медленно катится гром.
Ширится битва на Висле,
Дышит грозой и огнём.
Немцы идут в контратаки,
Пушки тяжёлые бьют,
Низкие жёлтые танки
К нашим окопам ползут.
Выстрел ответит на выстрел,
Лязгнут штыки о штыки,
Как в наступленьи мы быстры,
Так в обороне крепки.
Нам, закалённым и смелым,
Дух этой битвы знаком:
Силы врага перемелем,
Польше Варшаву вернём.
Волга и Днепр за плечами,
Дальше, товарищ, гляди.
Будет и Висла за нами,
Одер и Рейн впереди.
Много сражений победно
Мы за войну провели.
Это – одна из последних
Битв за свободу земли.
Вот почему так сурово
Бьёт за разрывом разрыв.
Выйдем за Вислою снова
В грозный широкий прорыв.
Вражьи полки переборем,
Близок решающий час.
Издали ласковым взором
Родина смотрит на нас.
Купался сегодня в реке. Вспоминал день форсирования. Наверное, никогда не забудется.
Получил письма от Василия Васильевича Галенко, от Оли. Вера и Валя с детьми вернулись на Кубань. Миша, пишут, остался в Омске.
Оганесян принёс много яблок, и мы с удовольствием покушали.
Написал письма детям, послал им тетрадки, бумагу.
13 августа
Вчера утром начштаба капитан Гольдинер зашёл в штабную комнатку, где находились я, адъютант лейтенант Погосян и Шведов.
– Товарищ Погосян, позавтракайте и пойдём на передовую в расположение наших рот, надо собрать сведения у нашей разведки, начертить планы немецкой обороны. Завтра надо будет представить в штаб корпуса.
– Слушаюсь, товарищ капитан.
– А может, и вы пойдёте с нами, старшина, как вы себя чувствуете? – обратился ко мне Гольдинер.
– С большим удовольствием, здесь уже осточертело сидеть, – ответил ему.
– Ну, тогда собирайтесь. Только вот что. Недавно наши войска заняли усадьбу польской графини Чарторыйской. Говорят, что в доме богатая галерея картин, библиотека. Графиня тоже там. Может быть, зайдём, посмотрим. На всякий случай, приведите себя в порядок.
Мы быстро побрились, начистили сапоги. На мне был недавно полученный новый офицерский костюм. И Погосян, и я пришили к гимнастёркам свежие подворотнички, надели кобуры своих пистолетов; после этого мы имели вполне приличный вид.
Через час мы переехали на лодке Вислу и пошли по направлению орудийных выстрелов, посматривая, время от времени, на карту.
До фронта было километров десять.
Шли, большей частью, лесом. Встречались поляны и поля, засеянные картофелем или травами, но на полях никто не работал. Прошли мимо лесопильного завода, на котором тоже не видно было ни одного рабочего.
Всю дорогу перебрасывались словами, делились впечатлениями.
Капитану Гольдинеру 34 года. По национальности еврей. До войны работал в городе Виннице инженером на скотобойнях.
Семью свою – жену и двоих детей успел эвакуировать в Пензу, где жена устроилась на работу в военкомате, а мать жила в Киеве, откуда не успела выехать. Известий о ней никаких не получает и сильно беспокоится, что её убили немцы.
Высокий ростом, русый, скорей похож на русского или на украинца. Как образованный человек, вёл себя со всеми вежливо, не заносчиво, но к подчинённым офицерам был требовательным.
В военном фортификационном искусстве, как офицер запаса, был не очень сильный, но в чертежах и инструкциях разбирался отлично. Не стеснялся в некоторых непонятных вопросах обращаться и ко мне, и я ему, конечно, помогал в том, что сам знал или что мог правильно разрешить.
Ко мне всегда относился вежливо, по-товарищески. Никогда не говорил «приказываю», а большей частью «попрошу делать». На передовую линию ходил нечасто, но был смелым офицером.
Был довольно выдержан, любил выпить, но не очень много. С адъютантом Погосяном отношения у него были хорошие, дружеские.
Лейтенанту Погосяну было 23 года. Родом из Армении. Отец его имел большую семью, был бедным и его, семи лет, отдал на воспитание бездетному дяде, жившему возле Ташкента. Часто любил рассказывать, как он дрался с такого же возраста, как и он, узбечатами, которые сразу не хотели принимать в свою компанию «армяшку».
Был стройным, красивым парнем. Чёрные волосы, такие же чёрные глаза, но не навыкате, как обычно у армян, тонкий ровный нос, тонкие губы, правильные черты энергичного волевого лица. Имел он среднее техническое образование, имел красивый почерк и хорошо чертил карты.
Был культурным, вежливым, но очень застенчивым.
– Вы как красная девица, – часто шутил Гольдинер.
Пил мало, а если выпьет, то быстро хмелел и становился словоохотлив, начинал сразу рассказывать, забыв, что уже говорил нам раньше, или про свои детские годы, или про бои, в которых он участвовал и был ранен, или про историйки в одном сибирском госпитале, где он находился на излечении.
Взаимоотношения у меня с ним были самые дружеские, в частных разговорах он называл меня по имени-отчеству, а я его – просто Миша. В длинные осенние и зимние вечера, томительные и скучные, где-нибудь в вырытой землянке он часто делился со мной своими сокровенными мыслями. Я был в два раза старше его, и он всегда советовался со мной, как в вопросах служебных, так и житейских.
Если останусь жив, то о Мише у меня останутся навсегда самые лучшие воспоминания, как о прекрасном боевом друге и товарище.
Прошли уже километров 6–7, то лесом, то полями. Погода стояла тихая, тёплая. Настроение у всех было хорошее, шутили, старались избегать разговоров о войне.
– Интересно всё же было бы познакомиться с этой вельможной панной-графиней, – сказал Гольдинер.
– Она, наверное, гонористая и высокого мнения о себе, как и все поляки, – сказал Погосян.
– Да, но ведь она должна сознавать, что мы их освободители, а офицеры раньше все дворяне были, – ответил ему начштаба.
– Знаете что, – сказал я, – давайте я представлю лейтенанта грузинским князем, он похож на грузина, не будет же она проверять его родословную.
Гольдинер и Погосян рассмеялись.
– Правильно, это замечательная идея. Словом, покажем, старшина, что наши не хуже ваших, – снова засмеялся Гольдинер.
– Только чтобы ты, Миша, держал себя действительно как князь, смотри, не покрасней перед графиней.
– Да что вы! Я не выдержу и засмеюсь.
– Нет, – говорю ему, – ты уж смотри, не подведи нас.
Прошли ещё с километр. Показалась большая усадьба, обнесённая высокой стеной, с большим двухэтажным красивым домом с белыми колоннами.
Внутри ограды и за оградой теснились служебные постройки, флигеля, оранжереи. От дома тянулся старый сад и, к моему удивлению, виноградник, чего я не видел во всей Польше.
К усадьбе по направлению Варшавы шла асфальтированная дорога, обсаженная с обеих сторон могучими липами.
Когда подошли к усадьбе, то увидели во флигелях много военных и медицинский персонал в белых халатах. Оказывается, сюда вчера переехал медсанбат.
Мы подошли к дому. Военных возле дома не было. Возле дверей стояли две польские чистенько одетые девушки и о чём-то разговаривали.
– Скажите, пожалуйста, – обратился к ним капитан, – графиня дома? И может ли она принять трёх русских офицеров? Скажите ей, что хотят посмотреть картины.
– Добже, паны, – очевидно, поняв нас, ответила, приятно улыбаясь, одна из девушек, возможно прислуга графини, и вошла в дом. Через несколько минут вернулась и, снова улыбаясь, сказала:
– Прошу, паны офицеры.
Мы вошли в дом.
Сразу же в большом длинном вестибюле нам бросилось в глаза большое количество прибитых к стенам рогов лосей. Под каждой парой рогов была надпись на польском языке – дата, имя и фамилия, очевидно, панов, убивших лося, которому эти рога принадлежали. Даты большей частью прошлого века, но некоторые и более позднего времени.
Мы невольно залюбовались этой галереей лосиных рогов и стояли возле них несколько минут.
– Прошу, паны офицеры, пани графиня чекае вас, – снова с улыбкой сказала нам подошедшая девушка.
Она провела нас через несколько комнат, и мы вошли в большую светлую гостиную, паркетный пол которой почти весь был укрыт коврами. Посередине стоял большой стол, накрытый скатертью, по бокам дубовые мягкие стулья, возле стен – две красивые софы, два или три трюмо, цветы.
Чувствовал, что не только я, а и мои начальники, кажется, немного оробели при виде такой роскоши, которую мы давно уже не встречали, ведь три года живём большей частью в земле, как звери.
Мы потихоньку говорили между собой, рассматривая картины.
Через некоторое время из боковой двери вышла в чёрном крепдешиновом платье с золотым брелоком на груди стройная, довольно красивая дама, лет пятидесяти.
Мы догадались, что это графиня.
– Добже дзень, паны офицеры, – сказала она, подойдя к нам ближе.
Мы вежливо, однако соблюдая своё достоинство, поклонились ей.
– Мы хотели посмотреть вашу картинную галерею, – с вежливой улыбкой на лице сказал Гольдинер.
Стараясь говорить по-русски, но часто вплетая польские слова и ударения, графиня довольно радушно, чего мы даже не ожидали, изъявила полное согласие и повела нас в соседнюю комнату, где на стенах было много разных, больших и малых, старых и новых картин в роскошных рамах.
– Вы, наверное, художники или любители живописи, – обратилась к нам с улыбкой пани.
– Нет, – сказал Гольдинер, – нам просто захотелось посмотреть вашу галерею, о которой нам рассказывали. Война уже надоела всем нам. За три года хочется хоть на час отвлечься, перенестись в другой, невоенный мир.
– Я вас прекрасно понимаю и глубоко сочувствую вам, – сказала графиня. – Прошу, чем богата, тем и рада, так, кажется, говорят русские, – снова улыбнулась она.
В галерее подлинники и прекрасные копии разных художников, разных времён, разных школ и направлений. Здесь были картины французских, испанских, итальянских, немецких, польских знаменитостей. Было здесь много и русских художников – Репин, Шишкин, Айвазовский, Серов, Верещагин и других великих мастеров живописи.
Мы обменивались с графиней своими мнениями, своими вкусами, стараясь показать, что мы – не только «серая шинель с погонами», а живые культурные люди, которые тоже могут ценить искусство.
Графиня водила нас с полчаса от картины к картине, объясняла нам, что нам было малопонятно, и видно было, что наше посещение ей совсем не в тягость, а наоборот, она рада была поговорить с культурными людьми, русскими офицерами.
Осмотрев три комнаты с картинами, она повела нас в библиотеку. Здесь были встроены в стены огромные книжные шкафы, под стеклом которых виднелись в роскошных, тиснённых золотом переплётах множество книг на разных языках. Больше всего было польских и французских. Были книги и русских писателей на русском языке, и переводы на польский Толстого, Тургенева, Пушкина, Гоголя, Данилевского и других.
Графиня сказала нам, что она хорошо владеет французским и немецким языками и читает по-русски.
С иностранной литературой, главным образом, с классиками из своей компании я был больше всех знаком, поэтому, чтобы «не ударить лицом в грязь», я говорил графине, какие я читал произведения из иностранной литературы. Вспоминал Шекспира, Шиллера, Байрона, Метерлинка, Дюма, Диккенса, Бальзака и других. Стараясь ей польстить, говорил, что очень люблю польских писателей. Видно было, что она была довольна нами.
Извиняясь, она несколько раз оставляла нас одних.
Мы спросили её, каким образом ей удалось сохранить в целости от немцев все эти ценности.
Она показала нам охранное письмо с фашистской печатью какого-то гауляйтера, в котором запрещалось всем немецким войскам что-либо трогать у графини. Видно, немецкое командование на что-то рассчитывало, выдавая такой документ.
После осмотра всех достопримечательностей, графиня повела нас в столовую – тоже большую комнату, с красивой люстрой над длинным столом. В углу стоял концертный рояль немецкого производства.
На одном конце стола, накрытого белой скатертью, стояло четыре прибора, возле каждого в строгом порядке по несколько вилок, ложек, рюмок.
– Прошу, паны офицеры, пообедать со мной.
Для приличия мы сразу отказались, но долго упрашивать себя не заставили хозяйку, тем более что уже изрядно проголодались после нашей армейской скудной похлёбки, какой нас накормил Оганесян ещё рано утром. На столе стояла бутылка вина и разные закуски.
Выпили сразу за победу над врагом.
– Я не пью, – сказала графиня, – но за победу и я выпью, – и немного надпила из хрустальной рюмки.
Мы же после первого бокала усиленно стали уплетать обильное угощение.
Затем подали суп, и снова выпили за Красную Армию и за Войско Польское, за Советский Союз и «за вольну Польшу», за освобождение Варшавы.
Вино было крепкое, развязало язык даже у Погосяна, который до этого больше молчал.
– Простите, пани, разрешите узнать, как ваше имя-отчество, – обратился к графине капитан.
– У нас по отчеству не называют, называйте меня просто Людвига.
После всех разговоров видно было, что она неглупая женщина, образованная, начитанная. За столом почти не кушала, больше всего рассказывала про немцев, про своё имение, про Варшаву, где у неё богатый особняк, про свои путешествия в Америку, про поездки почти по всем европейским столицам.
Рассказала, что она – вдова, что её муж – граф Зигмунд Чарторыйский, был полковником авиации и погиб в 1939 году при нападении Германии на Польшу.
Я решил, что пора начинать.
– Пани Людвига, – обратился я к ней, стараясь придать своему лицу самый серьёзный вид, – наш лейтенант тоже ведь грузинский князь. Его фамилия Голиадзе.
При моих словах, я заметил, как лицо Гольдинера на одну секунду передёрнулось от усилия сдержать смех, а Погосян чуть не подавился куском ветчины, покраснел и уткнулся лицом в свою тарелку.
– Да, да, пани Людвига, лейтенант действительно княжеского рода, да ещё древнего. Он у нас скромный, только не любит когда его называют князем, – поддержал меня Гольдинер.
– Князей у нас теперь нет, – не поднимая глаз от тарелки, едва промолвил Погосян.
– Ну, как нет? А граф Алексей Толстой, ведь он даже депутат Верховного Совета, член правительства.
Графиня внимательно смотрела своими красивыми глазами на смутившегося Погосяна. Лицо её выражало и удивление, и какое-то удовольствие, видно, от встречи с человеком, равным ей по знатному происхождению, чем она так гордилась, да ещё из большевистской России.
– Я читала историю древней Грузии, знаю, что князья Голиадзе играли выдающуюся роль в борьбе с персами и турками.
– Вот этот наш лейтенант и есть потомок тех князей, – прилагая все усилия быть серьёзным, сказал я графине.
– Я очень и очень рада, что имею удовольствие познакомиться с князем. Я читала «Петра Первого» графа Алексея Толстого, поэтому теперь не удивляюсь, что у вас остались и князья.
У Гольдинера весело блестели глаза. Видно было – чтобы не расхохотаться, он усиленно вытирал салфеткой свой рот, хвалил вино и закуски.
Я же как ни в чём не бывало старался прямо смотреть в глаза графини и выдумывал всякие достоинства князей Голиадзе и их потомка, нашего лейтенанта.
Погосян не поднимал глаз, продолжал через силу глотать какой-то фарш, взяв в замешательстве вместо вилки ложку.
Графиня извинилась и вышла из столовой. Мы все разом посмотрели друг на друга. Тут и я уже не выдержал от давившего меня смеха, прыснул под стол, но потом прикусил до крови свою губу, чтоб громко не захохотать.
– Как тебе не стыдно, старшина, я чуть под стол не провалился, – смеясь, но с укором тихо сказал мне Погосян.
– Молодец, Максимович. К этим гонористым панам нужно так только и подходить, чтоб заслужить внимание. Князь для них в сто раз важнее, чем красный офицер.
– Ты, Миша, только не бери в левую руку нож и не той вилкой фарш берёшь, не знаешь княжеского этикета, – шутил я над Погосяном.
– А, чёрт их знает, наложили полдесятка вилок и узнай, какой вилкой что брать.
Мы потихоньку смеялись, стараясь, чтобы не слышно было за дверью.
Вошла графиня. Мы продолжали насыщаться разными яствами.
Через некоторое время вошла девушка и принесла на подносе две бутылки вина со старыми этикетками, а другая – блюдо с жареной уткой и гарниром.
Слово «князь», видно, магически подействовало на графиню.
– Ради такого приятного знакомства, прошу, паны офицеры, выпить вина, которое любил мой покойный муж Зигмунд. Вину этому много уже лет, и я его берегу только для исключительного случая. Прошу, паны, не стесняйтесь.
Мы, конечно, не стеснялись и быстро опорожнили одну бутылку и принялись за утку.
Вино, действительно, было замечательное, ароматное, тягучее, крепкое.
Мы заметили, что графиня стала больше уделять внимания Погосяну.
После нескольких бокалов выпитого вина, у того, наконец, развязался язык, он стал внятно отвечать на вопросы графини и поддерживал наш разговор.
Графиня рассказала, что позавчера заходил к ней наш генерал, обещал, что под госпиталь будут заняты только флигеля и служебные постройки, а в доме её никто не будет беспокоить, а могилы наших солдат, похороненных возле дома, перенесут вглубь парка.
Графиня, между прочим, задавала вопросы о будущем Польши, но мы старались избегать разговоров на политические темы.
Послышался гул орудий, и это напомнило нам о суровой действительности, в которой мы находимся.
Довольно-таки охмелев после третьей выпитой бутылки чудесного вина, насытившись по горло всякими закусками, гостеприимно предложенных нам нашей вельможной хозяйкой, капитан сказал, что нам пора уже уходить.
Мы от души поблагодарили графиню за гостеприимство. Она сказала, что ей самой скучно, и она очень довольна сегодняшнему нашему посещению, просила заходить ещё, если будет у нас возможность, и проводила нас до вестибюля. Мы откозыряли и попрощались с ней.
Только выйдя за изгородь, мы дали волю давившему нас смеху и почти до слёз смеялись успешно разыгранной истории с «князем».
Нам надо было идти ещё километра два, свернув влево.
Недалеко от нас разорвались две мины, но мы так хорошо были выпивши, что не обратили на них никакого внимания.
На фронте было затишье.
В довольно просторной, накуренной землянке КП нашего батальона мы застали почти всех командиров, которые в это время «резались» в преферанс.
Кстати сказать, из 33 офицеров ни один раньше не умел играть в эту интересную игру. Всех их выучил я, когда стояли в Тамбове или в часы затишья на фронте.
Мы поздоровались.
– Весь штаб к нам пожаловал и что-то все весёлые, – засмеялся командир 2-й роты ст. лейтенант Минаев.
Хмель ещё у нас не прошёл, и мы, действительно, имели весёлый вид.
Капитан Гольдинер рассказал им про наше посещение графини и историю, которую мы разыграли там. Долго смеялись, подшучивая над Погосяном, а тот, в свою очередь, отшучивался остротами.
Через час Погосян забрал у командира нашего разведвзвода лейтенанта Фролова все данные и схемы разведанной немецкой обороны и укреплений, и мы, уже под вечер, простившись со всеми и с Гольдинером, который остался с ротами, ушли обратно. По дороге попалась попутная машина, ехавшая в штаб корпуса, и мы через час были уже на берегу Вислы.
16 августа
Получил письмо, которое меня сразу озадачило. Его трудно было понять.
Обратный адрес: полевая почта 05670 «М» Кармелюк Константин Павлович. Начиналось письмо со слов: «Здравствуй, дорогой дядечка!». Никакого племянника Константина Павловича у меня не было, а был сын Цапко Константин Павлович. Из содержания письма я понял, что пишет мой Котя, что он пошёл добровольцем в армию, находится в какой-то части, но для чего переменил фамилию и для чего меня называет «дядечка», так и не мог сообразить.
Просит меня, чтобы я попросил его командира зачислить в снайперскую школу, и в то же время пишет, что ему в его части не нравится и чтобы я ходатайствовал о переводе его в мою часть. «Будем тогда вместе бить фрицев», как поясняет он.
Как попал он в армию в пятнадцать лет, так и не написал.
Мой сыночек! Если бы ты знал, как встревожило меня твоё письмо. В голове пробежали всякие мысли. Я почти ночь не спал, думал о нём. Да, лучше всего было бы, если б ты попал к нам. Были бы вместе, всё же лучше. В тяжёлую минуту было бы кому подать руку. Да и соскучился я за тобой, три года не виделись. Ты теперь вырос, наверное, большой, солдат, защитник Родины… Всё думал, как его забрать сюда. А если и удастся, что его отпустят, то как он доберётся сюда за полторы тысячи километров и как он найдёт здесь нас.
Написал ему письмо, просил объяснить всё подробно, а сам решил попросить комбата написать в его часть письмо с ходатайством о переводе в нашу часть. Написал письмо Тоне, может, она волнуется, не знает, где он, а если знает, то что за причина перемены фамилии.
Котя пишет, что дети худые, недоедают, а у матери сердце больное. Но чем я могу им помочь?.. Получу получку и сбережения вышлю, но как эти копейки ей помогут? Эх! Скорей бы конец этой проклятой войне. Думал, отвоююсь, зато дети не будут воевать, а выходит, что и сыну со мной кончать эту войну. А конец ещё далеко и чем этот конец для каждого из нас ещё кончится…
17 августа
Перебрались к самому берегу Вислы. Живём под открытым небом. Кончается уже лето, ночи стали прохладные, хорошо, что хоть нет дождя, сухо.
Второй день немецкая авиация не действует. Зато наша бомбит правый фланг, который продвинулся немного вперёд. На левом фланге нашего корпуса некоторое затишье.
18 августа
Могу ли я забыть сегодняшнюю дату?!
Сегодня исполнилось три года моего ухода на войну. 36 месяцев отделяют меня от того дня, когда я в последний раз видел свою семью, своих деток.
Как долго тянулись эти дни. Дни, порой жуткие, непомерно тяжёлой походной жизни, почти всегда опасной, того и жди, что тебя прихлопнет бомба или осколок снаряда. Были и спокойные дни нашего формирования в Тамбове, но душевное состояние там было не лучше, чем на фронте, и каждый из нас думал скорей уехать в действующую армию.
Когда я начал писать этот дневник, думал ли тогда, что буду продолжать его на четвёртый год войны! Конечно, не думал, что доживу до этого времени. И моё желание сейчас – остаться живым, но и чтобы не пришлось записывать и четвёртую годовщину.
Скорей бы кончилась война, скорей бы с победой вернуться по домам, заняться мирным трудом…
Но уже меньше осталось. Ведь первую годовщину в этот дневник записал на Кавказе, почти на берегу Каспийского моря. Фронт шёл тогда под Грозным. Мало у кого была тогда надежда скоро увидеть своих родных. Как бесконечно далеки были тогда Украина, Белоруссия, Польша.
Вторая годовщина встретила нас в Тамбове. Тогда мы радовались взятию Орла, войска наши громили немцев под Харьковом.
За этот же год мы ушли ещё дальше.
Харьков и Висла, Орёл и Варшава. Поистине – этапы большого пути…
Получил от Тони письмо. Пишет, что продала уже последние вещи. Пишет про Котю, что он ушёл самовольно с Дёминым сыном в город Николаев; хотели поступить в морское училище, но там их не приняли, и он попал в какую-то воинскую часть добровольцем, добавил года и переменил фамилию, чтоб не отправили домой.
Конечно, мать тоже виновата, что допустила до этого.
22 августа
Роты по-прежнему находятся на фронте. На поставленных ими минах взорвалось много немецких танков.
Командование нашего батальона написало командиру части, где служит Котя, письмо об откомандировании его в нашу часть, но что-то мало у меня уверенности в успехе этого дела.
Бои идут беспрерывно. Враг ожесточённо сопротивляется. Показания пленных говорят, что немец всё время перебрасывает на этот участок фронта всё новые силы.
Во Франции союзники высадили свой десант и, по сводкам, успешно продвигаются вперёд, а Нормандская группа подошла к Парижу. Несмотря на успехи союзников и на опасность, какая угрожает Германии со стороны Франции, с нашего фронта немец не только не снимает свои войска, а ещё подбрасывает всё новые и новые дивизии и технику. Трудно, как же трудно приходится нашим войскам…
Почти ежедневно при немецких контратаках наши артиллеристы подбивают сотни танков. Можно судить о силе атак.
Стоят тёплые дни, ветра почти не бывает здесь.
Осень приближается, вернее, наступил конец лета. У нас в это время фруктов, помидоров, арбузов, дынь – сколько хочешь. А здесь только вчера первый раз попробовал огурец, а помидоров, кавунов, дынь и в помине нет.
Население густо живёт, бедно. На двор приходится 1–2–3 гектара песчаной земли. Сеют только жито, картофель, а кукурузу даже не видели.
Говорят, будто очень интересуются будущим устройством Польши и, сагетированные раньше, очень боятся коллективизации.
Один раз приезжал из командировки за продовольствием командир по хозчасти мл. лейтенант Артюхов, который за это время часто встречался с поляками и уже неплохо мог разговаривать по-польски, рассказывал:
– Спрашивают меня поляки с тревогой в глазах, будут ли и у них колхозы, я им ответил – как же, конечно, уже недалеко, вот на волах везут.
– Цо пан мовит?! – с ужасом в глазах переполошились поляки.
7 сентября
Стоим в обороне. Перебрались на левый берег. В последние дни почти затихли боевые действия. Погода пока хорошая. Мы находимся в хорошей землянке: и ветер не дует, и от небольшого дождя спрятаться можно, и спать тепло.
Хотя больших боёв и нет, но почти каждый день теряем своих товарищей то убитыми, то ранеными; батальон тает.
Получил сегодня медаль за участие в прорыве немецкой обороны под Ковелем. Вчера вечером в нашем корпусном «кинотеатре» показывали фильм «Кутузов». С удовольствием смотрели.
19 сентября
Стоим в обороне на прежнем месте – возле села Михново. Днём ещё тепло, но ночами бывает уже холодно. Нет никаких признаков, что пойдём в большое наступление. Слишком большие потери. В КП корпуса уже устраивают печки в землянках. Итак, снова готовимся к зиме, к четвёртой зиме на фронте!..
По газетным сводкам союзники подходят к границам Германии, а на наших фронтах затишье. Но люди подходят, пополняются поредевшие полки, приходят всё новые танки, артиллерия.
Коля Шведов уехал учиться в Москву в военное училище. А на его место назначили моим помощником молодого высокого сибиряка ст. сержанта Козулина.
В штабной землянке живём я, Козулин и два ординарца – Оганесян и Алексанян. Но они тоже уже надоели мне. В свободную минуту хочется иногда остаться одному со своими думами. И вот, накинув шинель на плечи, хожу по дорожкам между высокими осокорями, по осеннему нахмуренному лесу.
Лес и лес кругом. До чего же лесистая земля польская! Не то, что наша запорожская степь. Красиво в лесу осенью, но с каким бы я удовольствием переменил эти леса на запорожские степи.
Утомила уже всех война. Всё чаще и чаще при встречах друг с другом задают вопрос – когда это кончится?
Да, надоело всем, но всё же придётся воевать и «что положено кому, тот должен совершить».
Недавно под вечер тихого дня, выйдя из землянки, услыхал отдалённые звуки духового полкового оркестра, игравшего вальс «Осенний сон в лесу прифронтовом». Так необычны были здесь звуки музыки среди постоянных звуков взрывов снарядов, но слова этого вальса так гармонировали с действительностью, задели за самую душу, что я даже разволновался. И падали с деревьев уже листья, и каждому надоела уже война, и каждый знал, что дорога на Родину, домой, идёт через войну, и каждый знал, что, может быть, ему придётся положить здесь голову.
22 сентября
Ходил в кино. Показывали замечательный американский фильм «Битва за Россию».
7 октября
Я, конечно, понимаю, что сны – чепуха, и глупо в них верить. Но бывают же такие случайные совпадения.
3 октября мне приснилась нитка и будто бы я смотрел в зеркало. Я рассказал про свой сон товарищам. Кто-то из ездовых сказал мне, что предвидится скорая дорога и увидеться с родственниками. Я не обратил никакого внимания на талмудчика снов. Но в тот же день я получил письмо от Зоиного мужа Косинова Захара. Он приглашает меня к себе. Находится его часть на станции Брошкув возле города Седлеца. Написал, как его там найти. По карте Седлец находился от нас в 150 километрах на северо-восток.
Недолго думая, подал рапорт комбату отпустить меня к нему на три дня. Так как работы было мало, комбат сразу разрешил. Я беру на четыре дня продуктов и документы и отправляюсь в путешествие.
Время у меня ограниченное на отпуск, и я решил немедленно отправиться.
Вышел я часов в 11 часов дня. Шёл дождь. До дороги, где проходили машины, надо было пройти километров 6–7 пешком. Я так был рад, что вырвался хоть на несколько дней с фронта, с надоевшей военной обстановки, что удастся побыть хоть три дня совершенно независимым, что даже моросивший дождь, казалось, был мне приятным.
Из местечка Соболев попал в город Желяхов, а оттуда снова на попутной машине – в город Луков. В Лукове ночевал в доме приезжих при этапной комендатуре. Ни обогреться, ни просушиться в этом доме негде было и, кое-как дождавшись утра, 5 октября снова на попутной машине поехал на город Седлец, а оттуда на станцию Брошкув.
В Брошкуве долго спрашивал, где находится часть Захара, но никто мне не мог ответить. Я уже потерял надежду увидеть его и стал думать о возвращении «домой». Но всё же случайно нашёл его.
Оба мы были рады встрече, хотя до этого времени ни он меня, ни я его никогда ещё не видели.
Он – начальник инженерного склада. С ним живёт 10 человек его команды, которые почти ничего не делали и спали в комнате на кроватях, когда я к ним зашёл.

Косинов мне понравился – спокойный, выдержанный. Долго с ним беседовал о нашем житье-бытье. Он рассказал о моей семье (он случайно у них оказался в декабре 1943 года, будучи уже военным), и я ловил каждое слово о дорогих мне людях.
Вечером, как полагается в таких случаях, выпили бутылочку самогона, которого в Польше сколько угодно. На другой день утром сфотографировались вместе, и я, сделав отметку на командировке у коменданта, поехал в свою часть.
Ехал другой дорогой, по минскому шоссе на Варшаву по правую сторону Вислы, повернул по Люблинскому шоссе в Соболев. В серой дымке виднелись за Вислой разрушенные дома польской столицы.
Сделав четыре пересадки, я проехал около 170 километров и уже ночью приехал в Самогощ, где переночевал, а утром сегодня попутной машиной добрался до Вислы и вернулся в часть.
До чего же не хотелось возвращаться, так уж надоели эти землянки и однообразная жизнь последнего времени.
Сегодня немецкие самолёты стали проявлять особую активность, а немецкие артиллеристы стали часто делать артналёты. Несколько больших снарядов упало возле землянок штаба корпуса, нашей землянки и на переправе.
По данным пленных, сволочи-немцы хотят ещё наступать на нашем участке.
1 ноября
Получил письмо от Коти. Пишет, что в госпитале, был ранен в руку, но рана небольшая и собирается скоро оттуда выписываться. Так жаль, что не со мной, ему здесь легче было бы.
3 ноября
Написал письма Тоне, Коте. Тоня всё жалуется на тяжёлое материальное положение. Райсовет, несмотря на письма командования, ничем не помог.
6 ноября
Завтра 27-я годовщина Октябрьской революции. Каждому памятна эта дата. Ведь ежегодно в этот день мы собирались, праздновали, гуляли, выпивали, веселились, отдыхали в кругу близких, родных и знакомых. Но это было так давно…
Мы постарели, дети выросли, а скольких нет уже в живых…
Убит Ваня. Где братья Тони – Коля и Толя? Тоже, наверное, погибли.
И тяжело, до боли тяжело в этот вечер сегодня.
Сако Оганесян и Сандро Алексанян уже спят, а я не могу. Мои мысли там, в Запорожье, возле детей. Мои мысли в Карпатах, где мой Котя лежит в госпитале, а может быть, снова в разведке, пробирается тайными тропами к врагу.
Бедные дети. Тяжёлая доля выпала вам. Когда же это всё кончится, кончится эта проклятая война?.. Скорей бы добить фашистского гада.
Кончаю вторую тетрадку своего дневника. Я думал, что этой тетради хватит мне до конца войны.
Не вышло по-моему. Придётся начинать новую и продолжить запись будущих событий, если останусь жив. И, может быть, потом, спустя много лет, придётся заглянуть в него и вспомнить пережитое. А пережитого очень много. Пережито то, что не всегда и словами можно выразить. Пережитого не вместишь ни в один, ни в десять томов дневника…
27 ноября
Уже четыре месяца мы стоим на одном месте, на плацдарме левого берега реки Вислы.
Никто из нас тогда, 1 августа, не предполагал, что придётся так надолго здесь задержаться. Но для дальнейшего прорыва надо было собрать большую силу, чтобы мощным железным кулаком сбить врага и погнать его дальше. А это оказалось нельзя сделать быстро.
Всё уже надоело, а больше всего – вода: часто идут дожди, вода в Висле поднялась на целый метр. От дождя капает в землянке сверху, а снизу, через пол, проступает грунтовая вода.
Вынесем воду из землянки, подсыпем пол, а наутро снова вода сантиметров на десять. Ругается Сако, а что поделаешь?
Начали строить новую, так как в старой уже нельзя было выпрямиться и невозможно было дальше жить – сапоги всегда мокрые, ноги мокнут, кашель у всех, из носа течёт, словом, все прелести фронтовой осени.
О наступлении ничего не слышно.
30 ноября
Вечерело. В большой просторной и натопленной землянке нашего «клуба», освещённой большой лампой «молнией», которую неизвестно где достал Сандро, собрались начштаба, адъютант Погосян, заместитель командира батальона по политчасти капитан Деребизов, завклубом (и такая должность была) капитан Токарёв, начартснабжения ст. лейтенант Зубакин, командир роты Соколов, начфин лейтенант Курочкин, я и ещё несколько человек.
Говорили о ходе войны, читали последние известия о ходе наступления союзников, рассказывали, кому что пишут из дома, вспоминали товарищей, которых уже не было в нашем батальоне, вспоминали минувшие дни совместной службы в батальоне.
Капитану Деребизову было лет 37–38. Большинство из нас служит вместе с ним ещё с начала 1942 года. Служил он до войны парторгом где-то на нефтяных промыслах возле Грозного, знает хорошо нефтяное дело и любил рассказывать разные случаи и происшествия про добычу нефти. Был немного грубоват, видно, военное дело не любил, старался уживаться с командирами батальонов, которые уже несколько раз менялись у нас. Был недоверчив, но к сапёрам и младшим командирам относился хорошо. Меня ценил и уважал и по работе, и за то, что в тяжёлые опасные минуты я никогда не прятался за спины других, и часто ставил в пример при разговорах с бойцами. С начальником штаба у него были чисто официальные отношения. Любил выпить, но так, чтобы это было незаметно для других. Жил почти всегда в одной землянке с парторгом батальона и своим ординарцем и земляком Дюковым.
Начальник клуба капитан Токарев тоже был из Грозного. До войны служил на каком-то заводе каким-то служащим. Небольшого роста, тихий, мало говорил, на передовую ходить не любил, ничего не делал. Очень беспокоился за своё здоровье, никогда не ел и не пил горячего, водки тоже не пил. Ни пользы, ни вреда никому не делал.
Лейтенант Курочкин родом из Малгобека, служил бухгалтером. Так и не знаю, когда ему присвоили офицерское звание. Человек чисто гражданской, а не военной натуры. Лет тридцати, худощавый, спокойный, со своими обязанностями справлялся хорошо, денежное довольствие выплачивал аккуратно, но при случае любил крепко выпить. Отношения у меня с ним были чисто товарищеские, я его называл всегда только Василием Ивановичем, а он меня только Павлом Максимовичем. Любил лёжа читать книги, которые неизвестно где доставал.
Старший лейтенант Зубакин – бывший офицер ещё царской армии. Ему 48 лет, участвовал в первой империалистической войне. Был не очень складный, немного горбился, имел басистый голос, довольно грубый в отношении подчинённых, очень обижался, что его обходят в присвоении очередного воинского звания, строго придерживался субординации.
Когда мы находились в Тамбове, пришёл один раз в штаб и с возмущением начал рассказывать про случай, который с ним был в городе:
– Иду я по улице, навстречу мне идёт солдат, прошёл мимо, как будто не заметил меня. Почему, говорю, вы не отдаёте честь офицеру? А он обернулся, посмотрел на меня и, что вы думаете, послал меня к такой-то матери, и пошёл дальше. Ну, что я должен был делать? Я повернулся и тоже ушёл. Нет теперь дисциплины, распустился народ.
Все долго потом смеялись, часто подшучивали над ним.
В землянку вошли старший сержант Гашин и ординарец Деребизова Дюков.
Гашин был оружейным мастером и заведовал оружейным складом и чем-то ещё, часто куда-то ездил, что-то доставал, словом «всё, абы не на передовой», как говорил Гольдинер. Низенького роста, плотный и поворотливый парень. До войны работал на крекинговом заводе в Грозном. Знал много анекдотов и бесподобно мог подражать чеченскому говору, с которыми ему приходилось работать, знал их манеры, повадки, хитрость и алчность, и все не могли удержаться от хохота, когда он начинал рассказывать про чечен.
Оружие ремонтировал редко, но зато изготовлял прекрасные ножи с наборными колодочками и мундштуки из пластмассы.
– Получил я письмо от жены, – продолжал говорить Деребизов, – пишет, что уже ни Чеченской автономной республики, ни самих чечен на Кавказе уже нет. Всех их выслали в Сибирь или в Казахстан. Посадили в вагоны и за несколько дней всех убрали с Кавказа…
– Ай, ай, ай! Где же теперь мой кунак, дюшя, любезный Хасав Азгибов? – строя серьёзную мину, сказал Гашин, и все засмеялись.
– А помнишь, старшина, Дзицоева? – обращаясь ко мне, сказал Деребизов.
При этом имени знавшие Дзицоева не могли удержаться от смеха.
– Как не помнить такое счастье, – ответил ему…
– А Гидзоева помните, товарищ капитан?
– Это тот, из Орджоникидзе, директор ресторана? Как не помню, всех их помню, – ответил тот.
Гидзоев до мобилизации был директором ресторана в Осетии. Высокий, худощавый, чёрный, как смола, с большими лукавыми глазами, большой пройдоха, любил подхалимничать и не любил тяжело работать, часто притворялся больным, вечно надоедал врачу. Всегда рассказывал, как он хорошо жил до войны, как ухитрялся сбывать плохой товар, выдавая его за хороший.
– Кончим вайна, абязательно приезжай, старшина, в Арджинакидзе прямо ка мне. Уй! Какой же тебе обед угощу. Шашлык по-грузински, шашлык по-армянски, чеченски шашлик, шашлык с перцем. Уй! А самый карош шашлык по-осетински. Палчык аближеш. А плов какой здэлаем, а чебурекы з маслом! Ты такой никагда не видал. Как вспомню – слунка течёт. Всех афициантов заставлу ухаживат за тобой, музык играт будет, абязательно приезжай.
Среди осетин были в нашем батальоне и замечательные ребята. Помню старшего сержанта Дигоева. Всегда подтянутый, дисциплинированный, исполнительный, смелый. Когда на Кавказе под Моздоком мы пошли в наступление, его оставили охранять некоторое наше имущество. Он недели три ждал, что мы пошлём за имуществом подводы, потом бросил его, пустился догонять нас, но так и не догнал. Приписался к стрелковой части, думал оттуда выбраться к нам, но его оттуда не отпустили. Недавно от него получили письмо, в котором он пишет, что был в боях, ранен, теперь находится на излечении в госпитале под Москвой, получил орден, скучает за нами, будет проситься, если скоро выздоровеет, чтобы направили в нашу часть.
На Кавказском фронте было в нашем батальоне и человек пятнадцать азербайджанцев. Большинство из них совершенно неграмотны, по-русски почти не умели говорить. Все они из горных аулов, как курды или цыгане. Держались всегда особняком. Привыкшие к тёплому климату, они не переносили даже маленького похолодания. Сидят вокруг костра, греют над огнём руки…
Раз нам врач рассказал такую историю.
– Приходит ко мне Гудаев и говорит: «Туварыш дохтур, у мэнэ галава балыт». Я поставил термометр, измерил температуру, нормальная, говорю ему: «У тебя, ялдаш, голова не болит». Он помолчал, потом снова: «У мэнэ рука балыт». Я осмотрел руку, пощупал кругом – никаких признаков болезни руки не было. «У тебя рука не болит», – сказал я ему. Он снова помолчал и говорит: «У мэнэ курсак балыт». – «А! Курсак болит, ну ты бы так и сказал сразу», – говорю Гудаеву. «А отчего же он у тебя болит?» – спрашиваю его. «Чаго, чаго, – отвечает мне, – адын бальшой жэлэзный палка, адын челавэк, адын малэнкий катэлок – тыры челавека, как курсак не балэт?» – «Иди к повару, – сказал ему, – пусть даст тебе ещё “адын катэлок” супу». Он ушёл, очевидно, оставшись довольным моим диагнозом и лекарством.
До глубокой ночи разговаривали мы в своём «клубе», вспоминая живых и погибших своих сослуживцев.
5 декабря
В нашем разведвзводе, командиром которого был лейтенант Фролов, было 18 человек, большинство молодых, смелых хлопцев. Они часто пробирались к немецким окопам, узнавали расположение дотов, пулемётных гнёзд, минных полей и других оборонительных сооружений. Эти данные наносились на военные карты, и при наступлении против уничтожения принимались соответствующие меры.
Во взводе разведки был мой земляк из Орехова, замечательный хлопец Вася Удод. Ему было всего 19 лет, он был тихий, скромный, дисциплинированный, пользовался уважением у всех командиров. И вот, сегодня сообщили в штаб, что Васю и его товарища Кукоту разорвало миной, а троих тяжело ранило. Разведчик Остапчук рассказал, что ночью они вынули из немецкого минного поля новую, неизвестной ещё конструкции длинную мину, принесли её в расположение и попробовали разобрать. Мина взорвалась. Удода и Кукоту разнесло на куски, а находившихся в стороне троих тяжело ранило и контузило.
Не раз мне приходилось выслушивать подобные сообщения, но на этот раз это известие сильно меня взволновало. Мне очень было жаль Васю, который всегда относился ко мне как к отцу, а я к нему – как к сыну.
Надо бы написать родным, а рука не поднимается писать такие письма. Сколько слёз, сколько горя принесёт матери это письмо…
6 декабря
Откомандирован в другую часть наш начштаба капитан Гольдинер. Жалко было расставаться с ним, за два года привыкли друг к другу, ничего не могу вспомнить плохого о нём. Хороший был человек и товарищ.
На его место прислали другого инженера, москвича, капитана Шувалова. Молодой ещё, лет 28, симпатичный, на вид неплохой человек.
На фронте стало тихо, только изредка можно услышать орудийный выстрел или простучит пулемёт. Но данные нашей разведки говорят, что немец подтянул две свежие танковые дивизии и собирается снова наступать. Словом, затишье перед бурей.
По газетным сведениям, 3-й Украинский фронт перешёл уже в наступление. Возможно, что и мы скоро «выйдем в широкий прорыв».
Питание стало совсем плохое, не хватает продуктов.
Получил письма от Тони и от Коти. Жду ответа на наше ходатайство о переводе его в нашу часть.
Плохо, что нет радио. В этой глуши, в этом лесу как бы хотелось услышать живой голос из Москвы.
17 декабря
Многие из нашего батальона получили ордена и медали за форсирование Вислы. Мне, как и многим другим, начальник инженерных войск нашего корпуса полковник К., не имевший сам до сего времени ни одной награды, «урезал» награждения, и вместо ордена «Отечественной войны» мне дали орден «Красной Звезды». Ну да чёрт с ним, хорошо и то, что жив тогда остался.
31 декабря
Вот и последний день 1944-го года. Кончился и этот год. Не исполнились наши пожелания. С окончанием этого года не окончилась война.
Большой путь прошли за истекший год: Лошкарёвка, Апостолово, прорыв на Ингульце, непролазная грязь весной в степях Украины, жуткий холодный циклон Первого мая, когда люди десятками замерзали в Молдавии; переживания на Днестровском плацдарме, бои под Ковелем, Польша, Висла – мелькают в памяти картины пройденного за этот год пути.
Неужели и 1946-й придётся встречать на фронте?!.. Нет, не должно этого быть!
Хотя впереди ещё половина Польши, вся Германия, хоть и битая, но ещё такая сильная.
Нет! Будем надеяться, что в наступающем 45-м году фашистский зверь будет разбит окончательно и навсегда.
От Бори получил письмо, пишет, что уже на Чёрном море, на боевом судне моряком.
Исполнилось его желание. Желаю тебе счастья и успеха в твоей службе.
Прибыл новый комбат – капитан Гордюхин, новый зам. комбата по строевой части – ст. лейтенант Елизбарашвили. Люди хорошие, не чета прежним.
Отделом кадров корпуса меня утвердили в должности заведующего делопроизводством. Буду теперь получать офицерскую, хоть и небольшую, зарплату и офицерский доппаёк. Может быть, больше смогу послать детям.
1 9 4 5 ГОД
1 января
Встречу Нового Года провели в «клубе». Были почти все офицеры. Было что выпить, было чем закусить. Поднимали тосты за победу, за родных, за товарищей. Мысли, пожалуй, у всех были дома, в России, со своими близкими. И каждый думал, каждый надеялся, что следующий Новый Год будет встречать уже в кругу своей семьи.
А ведь из тех, кто встречал прошлый Новый Год, многих уже нет в живых. Война есть война. И быть может, многие из нас, встречающих в этой землянке Новый Год, не дождутся 46-го года…
8 января
Получил письмо от Коти. Он уже вышел из госпиталя, снова в действующей армии, в дивизионной разведке. Хотя бы берёг себя, ведь ещё такой мальчик, что учиться надо многому. С моим ходатайством о его переводе ничего не получилось, да этого, пожалуй, надо было ожидать. В армии на войне с одним человеком не считаются.
Разрешили послать домой посылки. Послал детям что было – сахар, мыло, банку консервов, китель, бумагу.
9 января
Сегодня первый раз получил зарплату по должности завотдела – 600 рублей. Послал Тоне. К основному окладу нам стали выдавать 50% злотыми на свои нужды.
Написал всем письма.
По газетным сведениям, немец начал крепко нажимать на наших союзников в Бельгии.
Видно, по всем признакам, скоро пойдём в наступление.
14 января
Наконец наступил долгожданный день! Началось наступление.
Две роты нашего батальона были приданы для разминирования немецких минных заграждений и прорезывания колючих проволочных заграждений к 100-му гвардейскому стрелковому полку 35-й дивизии, а первая рота – к 102-му полку 34-й дивизии.
К этому великому наступлению готовились пять с половиной месяцев. Всё было предусмотрено, всё было рассчитано. За последний месяц на плацдарм ежедневно прибывало много танковых и артиллерийских частей, полки пополнялись новыми людьми. С нашей стороны было уже явное преимущество – и на стороне живой силы, и на стороне техники. За каждым стволом дерева торчал ствол танка или пушки.
На правом фланге перед наступлением была сильная артподготовка, в значительной степени разрушившая сильные оборонительные сооружения. На левом же фланге, неизвестно почему, артподготовка была гораздо слабее. Из-за оплошности командования 100-го полка почти весь полк полностью погиб (осталось всего десятка три-четыре нестроевых). Погиб командир полка и весь командный состав. Более двадцати наших сапёров убито и ещё больше ранено. Тяжело ранен командир 2-й роты, теперь уже капитан Минаев. Убит лучший человек нашего батальона парторг второй роты, трижды орденоносец Кохидзе. Ранен старый мой друг старший сержант Базеко. Как бесконечно жаль этих хороших людей, боевых товарищей. Труп Кохидзе повезли на автомашине с собой, чтобы похоронить во время остановки, с возможными почестями.
Большие потери несла наша армия. Но врага всё же сломили.
Прорвали глубокоэшелонированную его оборону, густо усеянную минными полями, со многими рядами колючей проволоки, ловушками, с укреплёнными дотами и дзотами, пулемётными и пушечными гнёздами. Прорвали оборону, которую он так долго сооружал, на которую надеялся.
Много было замечательных эпизодов проявления необыкновенного героизма и отваги русского солдата, русского командира. Их бы следовало написать золотыми буквами в историю этой битвы.
15 января
Остановились в одном польском хуторе. Вырыли на холмике под деревом могилу. Собралось человек пятьдесят. Товарищ Деребизов и парторг батальона произнесли короткие речи, положили обёрнутый в плащ-палатку труп Кохидзе, трижды сделали салют из винтовок и автоматов. Здесь, за Вислой, так далеко от своей солнечной Грузии, был похоронен наш товарищ Кохидзе. Вечная тебе память, дорогой товарищ…
18 января
После прорыва вперёд пошли танки. Один за одним малые, средние, большие «КВ» бесконечными вереницами мчались вперёд, сокрушая всё на своём пути.
Один майор, земляк из Большого Токмака, с которым встретился ночью в пути, сказал, что на нашем участке сконцентрировано было две танковые армии, это значит до пяти тысяч танков.
Продвигаясь вперёд с наступающими полками, мы оторвались от штаба армии и корпуса. Газет не получаем, знаем только то, что творится вокруг нас, но, по слухам, наступление началось почти на всех фронтах. Положение начало выясняться: наша армия ударила с нашего плацдарма южнее Варшавы, а севернее Варшавы, в обход польской столицы, пошла 5-я Ударная армия, которая за несколько дней полностью освободила Варшаву от немцев.
28 января
Писать дневник некогда было, да и не представлялось возможности.
Продолжаем наступление. Идём днём, идём ночью, не зная сна и отдыха. Продвигаемся по 40–50 километров за день.
Наши танковые части, двигаясь, главным образом, по магистральным дорогам, оторвались от пехоты километров на 70–80. Появляясь там, где немцы совсем не ожидали, заходили в глубокий тыл врага, наводя там панику и ужас.
Позади и в стороне от нас оставалось много отдельных групп немецких войск, которые уничтожаются нашей пехотой.
Раз после тяжёлого перехода остановились переночевать в одном польском селе рота наших сапёров, хозвзвод, взвода два пехотинцев. Прибегает Дюков и говорит, что по дороге, проходившей возле села, движется много немцев. Действительно, уже в темноте слышен был большой шум от танков, артиллерийских тягачей, автомашин. Немецкая колонна шла часа два. Мы заняли в селе оборону, но немцы в село не зашли – спешили на запад.
Пленных немцев было мало. Правда, и в плен почти не брали. Они это знали, а кроме того, их раньше сагитировали в плен не сдаваться – мол, русские всё равно убьют.
Позавчера пять-шесть наших повозок, в числе которых была и штабная повозка, задержались и отделились от остальных. Ехали ночью какими-то перелесками. Я шёл возле средней подводы, а передняя подвода шла впереди метров на 100. Вдруг слышу оттуда выстрелы. Подвода впереди остановилась, послышалось жалобное ржание лошади. Я моментально приказал нашему сапожнику Шпригману и старшине химвзвода Бубнову идти за мной, а сам побежал вперёд. Навстречу мне прибежал Бессонов и быстро начал говорить, что впереди несколько немцев, стреляли в него, но не попали, убили лошадь и, кажется, ранили ездового; они были в десяти метрах от него, но его парабеллум отказал.
Мы с Бессоновым схватили с соседней подводы карабины и побежали к передней подводе. От подводы по направлению кустов уходили три человека – один впереди, а два сзади. Я крикнул им по-немецки, чтобы сдались в плен, но вместо ответа над нашими головами пролетело несколько пуль.
Я понимал, что из винтовки в темноте трудно попасть, быстро вынул из полевой сумки «лимонку», с которыми я никогда не расставался, выдернул предохранитель и бросил в немцев.
– Ложись! – сказал я Бессонову и лёг сам, так как осколки могли и нас задеть. В тот же момент раздался взрыв брошенной мной гранаты, задние два бойца упали, а шедший впереди успел уйти в кусты. Подошли к немцам. Один был убит наповал, а второй был ранен. Бессонов пристрелил и второго.
– Гады, почти в упор в меня стреляли.
Бубнов прострочил из автомата кусты, куда ушёл третий немец, затем снял с убитого часы и, обращаясь ко мне, сказал:
– Возьми, старшина, твои немцы, твои и часы.
Мне противно было брать их в руки, и я от них отказался.
Шпригмана не было близко. Кто-то сказал, что он с автоматом в руке спрятался за подводу и дрожал.
Бубнов подошёл к нему и покрыл его самой отборной матерщиной.
Запрягли запасную лошадь вместо убитой. Подводы подогнали одна к другой, Бессонов и я пошли впереди, а Бубнов – позади обоза, внимательно всматриваясь в темноту, опасаясь встретить более крупную группу немцев.
Через час мы догнали своих в имении богатого поляка. Там было всё наше начальство, готовили отличный ужин. Старшина Бубнов рассказал о случае с нашей группой.
– Молодец, Цапко. Так им, гадам, и надо. Товарищ Шувалов, старшину Цапко обязательно представьте к награждению медалью.
– Ну, а как себя вёл Шпригман? – спросил Деребизов Бубнова и улыбнулся, зная трусливого сапожника.
– Извините, товарищи, Шпригман нас… полные штаны, – сказал Бубнов, и все захохотали.
Я был немного взволнован, но чувствовал некоторое душевное удовлетворение, в том, что выполнил свою клятву отомстить за смерть брата Вани.
Мы всё двигались вперёд.
Слева от нас осталась Лодзь и большой город под названием Познань. В Познани укрепилась большая немецкая группировка в составе нескольких дивизий. Задерживаться там не входило в расчёты командования, и для ликвидации познаньской группировки был оставлен 29-й корпус, а остальные два корпуса нашей 8-й гвардейской армии под командованием Чуйкова продолжали двигаться вперёд, сметая всё на своём пути.
Проходим много городов и сёл. В городах немцы обычно оказывают значительное сопротивление, приходится нашим войскам подавлять его артиллерийским огнём. Поэтому многие дома охвачены пламенем, полно дыму, с треском и шумом валятся стены. Не только ночью, но и днём редко увидишь гражданское население – все попрятались в подвалы, в укрытия, спасаясь от снарядов и пуль.
В сёлах же, которые немцы большей частью оставляли без боя, поляки встречали нас радушно, завязывали с нашими бойцами оживлённые разговоры.
31 января 1945 года, 2 часа дня
Перешли немецкую границу. Ворвались в провинцию Бранденбург.
Вот она – проклятая Германия! Наконец-то мы добрались до немецкой земли.
Все пребывали в возбуждённом состоянии. Каждый радовался, что после трёх с половиной лет войны наконец вступили в логово фашистского зверя, который пять лет своим сапогом топтал почти безнаказанно всю Европу; три с половиной года разрушал, жёг, убивал и грабил сотни тысяч невинных людей на нашей Родине.
Пришёл час расплаты! Не должно быть жалости к жестокому врагу!
Наш 4-й гвардейский Бранденбургский корпус («Бранденбургский» присвоено за то, что первые вступили на немецкую землю) под командованием дважды Героя Советского Союза генерал-лейтенанта Глазунова, человека на вид болезненного, но очень энергичного, умного, волевого командира, продвигался в авангарде 8-й армии на запад сравнительно узким фронтом, но так стремительно, что наши танковые колонны, а вслед и пехота появлялись почти всегда неожиданно для немцев, нарушая все расчёты немецкого командования и наводя панику в немецкой армии.
В этом проявилась мудрость командующего фронтом Жукова и командующего армией Чуйкова, в этом было наше преимущество.
За две недели наступления мы врезались глубоким клином почти на 500 километров на Запад. По правую и левую сторону от нас, километров на 200–300 позади остались, хотя и отступающие, но ещё сильные немецкие армии.
Большинство немцев отчаянно сопротивлялись, и их обычно всех уничтожали. Но некоторые подразделения, видя безвыходное положение, сдавались в плен. Если это были отдельные немцы, то обычно их расстреливали, а если сдавались группами по 50–100–200 человек, то у них отбирали оружие, строили в колонну и под командованием их же офицеров направляли «нах остен ». Сопровождающих бойцов им не давали, с ними некогда было возиться, а каждый человек был на счету.
Они шли, прижавшись друг к другу, боясь отстать, понурив головы, очевидно предугадывая, что придётся шагать сотни, тысячи километров на восток, снова в Россию, где они уже были, но теперь уже не в качестве победителей, а в качестве бесправных военнопленных, где им долго придётся теперь отстраивать то, что они разрушили.
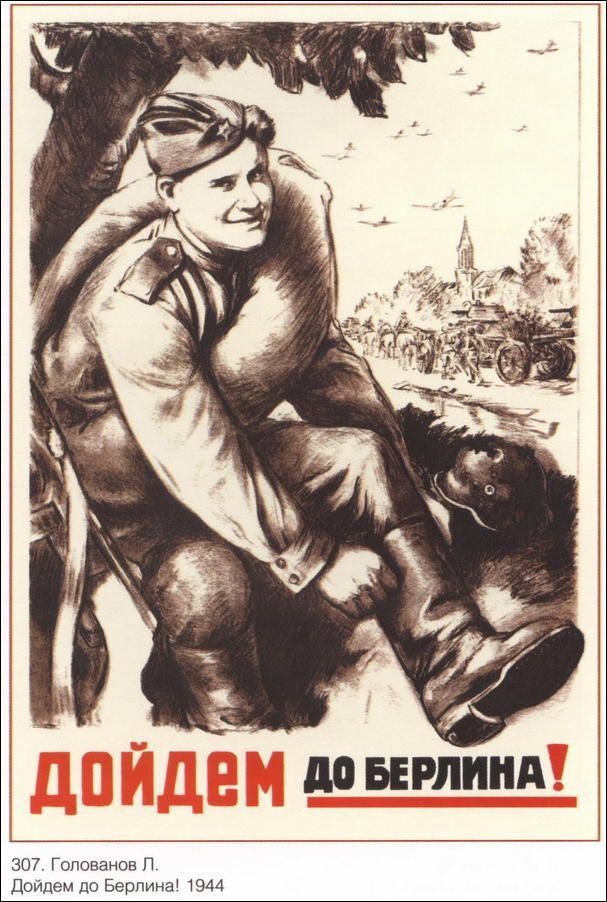
2 февраля
Стремительно продвигаемся вперёд. Вчера за день с боями прошли 50 километров.
Часов в двенадцать дня остановились возле одного немецкого селения передохнуть.
Из каждого окна и возле дверей свисали белые простыни – знак капитуляции немецких бауэров перед русскими войсками. Неожиданно налетело больше десятка немецких самолётов и с небольшой высоты стали нас обстреливать из пулемётов. Я и ещё пять человек из разведвзвода забежали в один кирпичный дом, надеясь спрятаться от пуль. Вошли в комнату, очевидно, столовую. Возле противоположных дверей стояли один худой и два очень солидных немца средних лет и две полные высокие немки. Все они были бледные, перепуганные, растерянные, очевидно, думали, что мы будем их сразу убивать. Не говоря ни слова, я с автоматом в руках прошёл в следующую комнату, проверить, на всякий случай, нет ли спрятавшихся «фрицев». Там тоже стояли с заплаканными глазами две немки помоложе.
Когда мы пять с половиной месяцев стояли в обороне на плацдарме возле Вислы, я достал русско-немецкий словарь и от нечего делать, довольно основательно подкрепил свои ещё школьные знания немецкого языка и теперь, хотя и коверкая, мог довольно сносно говорить и с немцами.
Немцы жили богато. В этом доме была прекрасная обстановка, ковры, гардины, хорошие картины, много цветов.
Мы сели на мягкие стулья, закурили. Солидный немец с бледным лицом вынул зажигалку и предупредительно дал прикурить. Руки у него дрожали.
– Чего вы боитесь? Мы мирных людей не убиваем, не то, что ваши солдаты, – сказал я ему.
Немцы немного оживились.
– У вас всего много, зачем вам было идти ещё к нам в Россию грабить, – продолжал я, – теперь вот и вы узнаете, что такое война.
– Гитлер, алес Гитлер, – все разом заговорили немцы.
Всё, сволочи, теперь валили на одного Гитлера.
Мне захотелось пить. Я попросил кофе. Одна немка с несвойственной для её комплекции проворностью через минуту принесла на блюдце чашку холодного кофе. Я сказал, чтобы подала всем горячего сладкого кофе. Она очень извинилась, забрала чашку, а минут через пять вдвоём на подносе принесли горячий кофе и какое-то печенье.
– А оно, часом, не отравленное? – спросил ефрейтор Фомин.
– Нет! Им теперь не до этого. Они теперь рады нам руки лизать, лишь бы ты их живыми оставил, – ответил ему, и все дружно засмеялись.
Стояла зима, было холодно, в пути мы часто перемерзали, поэтому с большим удовольствием пили сладкий, ароматный кофе, а немцы, увидев, что первая их встреча с русскими обошлась благополучно, старались предупредить малейшее наше желание, угощали сигарами, рассказывали, через какие города идёт дорога на Берлин.
Через полчаса немецкие самолёты, израсходовав весь запас патронов, улетели, и мы вышли из дома.
Было убито много лошадей, несколько человек было ранено, разбита одна автомашина. Убитых лошадей заменили другими, взятыми у немцев, и двинулись дальше.
К вечеру доехали к городу Шверингу. Большинство немцев, особенно богатых, всё побросав, успели удрать из города.
Я и Погосян пошли в соседний большой двухэтажный дом. Во всём доме не было ни души. Он был богато обставлен, везде был полный порядок, видно, что богатые хозяева еле успели уехать сами.
Мы начали осматривать одну за другой комнаты. Везде цветы, картины, мягкая мебель, ковры, полные шифоньеры – платья, костюмы, часы.
– Давай возьмём себе хоть по паре костюмов, пошлём домой, а то всё равно растащат, а то и сожгут дом со всем добром, – сказал мне лейтенант.
Мы положили в чемоданы по паре костюмов, бельё, по одному ковру, некоторые красивые безделушки, взяли по одному одеялу.
В столовой в посудном шкафу я увидел в оббитом внутри бархатом футляре набор серебряных ножей, вилок, ложек, ложечек и ещё какими-то приборами.
– Это отдам нашему повару. Стол пусть сервирует нам только серебром.
3 февраля
Из Шверинга вышли рано утром. За день продвинулись более чем на 70 километров. Почти вся пехота ехала на брошенных немцами бричках, повозках, автомашинах. Многие ехали на велосипедах, кто умел – на мотоциклах. Поломается – тут же бросает, садится на другой. Добра этого было здесь очень много.
Некоторые ехали в роскошных открытых и закрытых каретах, очевидно, изготовленных в прошлом веке и известных нам только по картинкам. Чёрт знает, где они только подоставали их.
Ехали все навеселе, все были выпивши, у каждого или запас вина, или полные фляги спирта. Всем было море по колено. Некоторые молодые офицеры навешивали на себя длинные в никелированных ножнах парадные шашки или тонкие шпаги, завернувшись в чёрные накидки из дорогого тонкого сукна с золотой пуговицей. Ни короткие стычки с врагом, ни жестокие бомбёжки неприятельской авиации не могли испортить душевного подъёма наших войск.
Забыли скудные армейские пайки. Бери, кушай, что хочешь и сколько хочешь. Колбасы, ветчина, масло, белый хлеб, банки варенья, всевозможные консервы – всё было у каждого, кто сколько мог с собой взять.
Многие солдаты надели на себя вместо потрёпанных и износившихся солдатских брюк и гимнастёрок новые, дорогого сукна штатские костюмы и только прикрылись серой шинелью.
Появилось неизвестно кем пущенное меткое выражение: «Ванька гуляет по Европе».
Командование видело всё это, знало, что армию нельзя долго держать в таком состоянии, что всё это может привести к нарушениям строгой военной дисциплины. Но в то же время командиры понимало, что нельзя сдерживать тот огромный порыв, овладевший нашим войском, и нужно поддержать ту уверенность в победе, которая придавала свежие силы уже сильно уставшим войскам.
Мы ни на шаг не отставали от наступающей пехоты, так как в любую минуту могли встретить или минные заграждения, или взорванные мосты, которые должны были немедленно восстановить.

Под вечер подошли к небольшому городу Зонненбургу. Город брали с боем – и пехота, и сапёры. Возле города, со стороны, откуда мы наступали, стоял обнесённый высокой каменной стеной завод-тюрьма. Я, Козулин и Фомин решили посмотреть, что там внутри. Кругом было заперто, а стена высокая. Наконец, нашли небольшое окошко, выломали раму и подсадили туда Фомина. Минут через десять он возвратился чем-то сильно взволнованный.
– Там страшно, там огромная куча убитых людей, – тихо промолвил он.
Подошло ещё несколько человек. Мы выбили оконные переплёты, стало просторней и мы все влезли в помещение, а потом вошли во двор.
Перед нами представилась действительно ужасающая картина: на большом дворе тюрьмы длинными рядами, один возле другого лежало, по нашему приблизительному подсчёту, около тысячи расстрелянных людей. Мы, видевшие за три года войны немало уже крови, убитых в бою немцев и своих товарищей, всё же не могли спокойно смотреть на это массовое убийство безоружных людей и направились обратно. Вдруг слышим слабый голос и увидели возле кучи угля маленького человечка, чёрного от угля.
– Русь, русь! – старался крикнуть он и с полными слёз от радости глазами кинулся к нам.
Это был пленный француз.
Среди трупов поднялось ещё два человека. Они были с Западной Украины. Один был ранен в плечо, другой в шею. Раны были не смертельные, и они остались живы. Они рассказали, что вчера эсэсовцы, не надеясь их уже увести с собой, вывели во двор и из пулемётов и автоматов всех расстреляли. Французу случайно удалось спрятаться в куче угля, и тем посчастливилось избежать участи своих товарищей. Они все не поднимались, боясь выдать себя, и только услышав наши голоса и убедившись, что бой окончен, поднялись и подошли к нам.
Они бесконечно были рады нашему приходу. Кажется, больше всех был рад француз. Сказали, что уже больше двух дней ничего в рот не брали. Мы их умыли, перевязали раны. Вечером накормили. Наш СМЕРШ Федя долго снимал с них «допрос», а утром отправили их в тыл.
Поздно вечером наши сапёры привели трёх гражданских немцев, утверждавших, что они рабочие, а Деребизов сказал, что это, скорей всего, переодетые «фрицы» и приказал вывести их за двор и расстрелять.
4 февраля
Рано утром подошли к Одеру. Здесь нагнали, наконец, свои танковые части. Немцы взорвали мосты, и танки без нашей помощи уже не могли перебраться через эту широкую реку.
До Берлина осталось 70 километров.
За две с половиной недели мы прошли с боями 540 километров, разгромив большую немецкую армию. Мы первые вошли в Германию, первые подошли так близко к Берлину. Этот поход войдёт в историю героики Великой Отечественной войны. Мы гордимся, что почти всё время были в авангарде этого великого наступления.

Одер. Это последняя крупная природная преграда перед Берлином. Одер немцы укрепляли десятки лет, ещё задолго до начала войны.
Правый, восточный, берег – пологий, а западный – с крутыми обрывами, с высотами, которые тянутся километров на 10 от берега. Таким образом, получается естественное удобное место для обороны и неудобное для наступления. К тому же, на нашем берегу, в месте слияния реки Варты с Одером, в руках немцев находится ещё старинная крепость Кюстрин, которая является сильным опорным пунктом немцев и связывает руки двум армиям – нашей 8-й гвардейской с юга и 5-й Ударной с севера.
Но несмотря на это, как только подошли к Одеру, наш батальон немедленно приступил к переправе пехоты и лёгкой техники через разрушенный снарядами лёд.
С ходу был занят небольшой плацдарм на немецком берегу, и начали закрепляться. Немец ожесточённо сопротивлялся. Переправа обстреливалась врагом с трёх сторон, не только артиллерийским и миномётным огнём, но и пулемётами. Кроме того, вражеская авиация беспрерывно бомбила большими группами – по 20–30 штук. Всё это создало почти невозможные условия для переправы. Много было потерь с нашей стороны. Многие нашли могилу в холодных водах Одера.
Плацдарм был маленький, один-полтора километра в ширину и километр в длину. Немцы хорошо знали, что, закрепившись на их стороне и подтянув технику, мы сможем прорваться к Берлину, и поэтому подбрасывали на этот участок всё свежие силы из Берлина и даже Западного фронта.
В первый же день погиб старшина Калашников, убиты Кузнецов, Ветлугин, Сагоев и другие. Многие ранены.
5 февраля
Штаб нашего батальона поместился в ближайшем к переправе селе Запциг на правом берегу, километрах в четырёх от переправы и пяти от Кюстрина.
Хозяин дома, в котором мы остановились, ушёл, оставив всё имущество. Дом очень богатый, всего полно. Пьём, кушаем что хотим. В сарае 10 дойных коров, хватает молока всем.
10 февраля
Постепенно в упорных боях плацдарм расширили, построили мост, который немцы каждый день разбивали, но его снова чинили, и стали переправлять на плацдарм танки, пушки, снаряжение. Таким образом, за несколько дней наш корпус закрепился на левом берегу, хотя километрах в десяти к югу от нас на нашем берегу осталась ещё сильная немецкая Франкфуртская группировка, а к северу, в пяти километрах от Запцига и в трёх километрах от переправы – крепость Кюстрин.
12 февраля
Продолжаются на плацдарме жестокие бои. По сорок и более штук налетает немецких бомбардировщиков на переправу. Ходил туда два раза. Раз попал во время налёта. Прятались в глубокие бомбоубежища. Земля дрожала, как при сильном землетрясении. Гул от взрывов был неимоверный. Я думал, что от моста ничего не останется, однако он был повреждён только в двух местах, которые наши сапёры часа через два залатали. Мы все возмущались: почему нет нашей авиации, почему в воздухе безнаказанно летают только немецкие стервятники, а нашего ни одного самолёта нет. Но сегодня вечером узнали причину этого положения.
Вечером в нашу комнату зашёл приехавший командующий инженерными войсками армии генерал-майор Тарасенко. В высокой чёрной папахе, с длинными усами, спокойный, говорил он с нами, вставляя часто в русскую речь украинские слова, как равный с равными, совершенно не проявляя своего превосходства в звании и служебном положении.
После всех объяснений, какие ему давал наш комбат капитан Гордюхин, Деребизов задал ему вопрос: почему нет нашей авиации.
Он окинул взглядом вокруг и сказал:
– Здесь, кажется, все свои, можно говорить.
Деребизов в подтверждение кивнул головой.
– Дело в следующем, товарищи, – начал он, – как вам известно, наша армия за две с половиной недели вклинилась узким фронтом на 540 километров вглубь Германии. Слева и справа другие армии продвинулись значительно меньше. Справа и слева находятся немецкие армии, а мы, фактически, находимся в длинном, правда, не завязанном мешке. В настоящий момент немецкое командование собрало на севере большие танковые силы и стремится завязать этот мешок. Если ему удастся это сделать – нам будет капут. Вот почему наше командование фронтом бросило туда всю авиацию, все резервы, там, позади нас идут тяжёлые бои с большими силами врага и, кажется, успешно. Когда там будет ликвидировано наступление немцев, то наша авиация прилетит и сюда, если, конечно, останется что-нибудь.
Теперь причина отсутствия нашей авиации стала для нас ясна.
Собрал и отправил две хорошие посылки – одну Тоне, другую маме. Написал всем письма.
Видно по всему, что придётся и здесь долго стоять, пока подтянутся тылы, пока не поступит новое пополнение, так как в полках осталось меньше половины людей, а большое количество танков, пушек стояли разбитые по дорогам Польши и Германии.
Окно штабной комнаты выходит на дорогу по направлению Кюстрина и переправы, а за дорогой – небольшая площадь.
По дороге всё время большое движение: идут машины, танки, повозки, шагают колонны пехотинцев, подвозят боеприпасы, продовольствие. Со стороны же переправы часто увидишь немецких женщин, большей частью глубоких старух, и маленьких детей, которые везут в ручных колясочках не поймёшь кто кого. Видно, все усталые, еле движутся. Всех их выселяют с прифронтовой полосы. Никогда они раньше не знали, что такое война. А теперь и они узнали ужасы войны.
И хорошо узнали. Пусть знают.
20 февраля
Получил письмо от Коти. Письмо написано 1 февраля. Три месяца от него не было писем, и я уже сильно за него беспокоился, и сны плохие снились. Желаю тебе здоровья, сынок!
На фронте положение без особых изменений. Наше село немец стал часто обстреливать из Кюстрина. В моей комнате от разорвавшегося снаряда повылетали все окна, но всё обошлось благополучно.
12 марта
На площади, напротив окна штабной комнаты, хоронят убитых на переправе. Привозят на подводах по несколько трупов, порой уже одубевших, складывают, завернув их в шинель или плащ-палатку, по одному, по два, а иногда и по пять в выкопанную заранее яму; поиграет оркестр, состоящий из четырёх-пяти музыкантов, раздастся салют из нескольких винтовок, и новые жертвы войны находят здесь себе вечный покой, вдали от Родины, от своей любимой семьи. Над каждой могилкой устанавливается изготовленная из досок и окрашенная в красный цвет колонка со звездой наверху и дощечка с именами похороненных в могиле бойцов и офицеров.
Хоронят каждый день, иногда с утра до вечера. Только к ночи прекращаются жалобные мелодии оркестра и выстрелы салютов. За полтора месяца из отдельных могил выросло целое кладбище, заняв собой почти всю площадь. Сколько же их, бедняжек, здесь похоронено – сотни? тысячи?..
А сколько таких могил, часто без колонки, без надписи, разбросано по бесконечным дорогам жестокой войны!..
А убитых всё везут и везут…
И когда же будет конец этой проклятой войне?!..
Вчера 5-я Ударная армия заняла город Кюстрин, но только город, а крепость находится в руках немцев, где, по данным пленных, находится до восьми тысяч немецких солдат и офицеров, большой запас боеприпасов к тяжёлой артиллерии.
Продолжают идти упорные бои по расширению плацдарма.
20 марта
Из крепости Кюстрин немцы снова начали обстреливать наше село большими снарядами. Наш дом стоит на краю. Из крепости видно его, как на ладони. Возле дома проходит дорога, неприятель видит постоянное движение возле дома, и он чаще всего старается сюда угодить.
Возле дома стояла автомашина. Попавший в него снаряд разнёс её в щепки. Один снаряд попал в конюшню и убило трёх лошадей и двух коров. В соседнем сарайчике снарядом убило двух девушек-связисток. Вдруг задрожал весь дом, полетели окна и штукатурка – большой снаряд попал в угол нашего дома, обвалил часть стены и разорвался в подвале, к счастью, только ранив ездового Драгина.
Стало уже страшно сидеть в доме.
– Чёрт его знает, куда спрятаться, – тревожно сказал Козулин, – в подвал – там полно порохового дыма, да и там чемодан достанет.
– Никуда от смерти не спрячешься. Не знаешь, где тебя смерть найдёт, – сказал встревоженный, как и все, начальник штаба.
Действительно, от этих тяжёлых снарядов некуда было спрятаться, и мы столпились, затаив дыхание, ждали очередного снаряда, ждали своей участи.
Снова упал снаряд посреди двора, но и на этот раз никого не задел.
– Сако! А ну-ка, принеси графин спирту, а то что-то скучно на душе, – крикнул, стараясь быть весёлым, капитан Шувалов ординарцу Оганесяну.
Выпили по полстакана чистого спирта, запили водой. Сразу стало веселей, кажется, и страх прошёл.
Уже начало темнеть, и немцы прекратили обстрел.
Получил письма от мамы, Оли, Веры. Тоня пишет мало.
23 марта
Вчера начали большое наступление по расширению плацдарма. Плацдарм расширили, но потери очень большие. Потеряли очень много самоходных орудий. Наши сапёры сопровождали самоходки, и к вечеру погибло 30 человек. Из пятисот человек в батальоне осталось всего человек двести…
26 марта
Наступила весна. Весна на Одере. Четвёртая весна на войне.
Стоят тёплые солнечные дни.
Пленные немцы говорят, что вся местность от Одера до Берлина покрывается оборонительными сооружениями. Выходит, что немец не думает капитулировать, а решил обороняться до последнего. Значит, много будет ещё жертв.
А бои идут. Жестокие бои. Окно беспрерывно дрожит от орудийных выстрелов и разрывов снарядов. Немец всё идёт в контратаки. Но ни черта! Уже не собьёшь теперь нас с плацдарма.
Получили приказ из штаба корпуса нашему батальону посеять 30 гектаров яровыми культурами в прифронтовой полосе. Сразу нас, конечно, такой приказ очень удивил.
Узнали, что такие приказы получили многие другие части.
Необходимость этого мероприятия выходила из следующих соображений.
Наша армия находилась в тысячах километров от своих глубоких тылов, откуда нужно было доставлять большое количество продовольствия, фуража. Да не так было много всего этого и в нашем краю, разорённом немцами. Беспрерывным потоком надо было подвозить танки, орудия, огромное количество боеприпасов, войска и многое другое. Железнодорожный транспорт был разрушен. Доставлять это всё на огромное расстояние было в высшей степени затруднительно. Кроме того, война должна скоро закончиться. Гражданское население Германии, особенно Берлина, тоже чем-то придётся кормить, а между тем остаются незасеянными сотни тысяч гектаров плодородной земли в прифронтовой полосе, откуда всех немцев убрали.
Командование фронтом решило использовать перерыв в наступлении и засеять прифронтовые земли тех войск, которые в настоящее время не принимают непосредственного участия в боях на плацдарме, используя подсобные подразделения, выздоравливающих.
Мне, как агроному, комбат приказал возглавить это дело.
С большим удовольствием я взялся за организацию этой работы, от которой уже начал отвыкать за четыре года войны.
Наш участок отвели за 9 километров от Запцига, возле города Зонненбурга.
Достали плуги, бороны, сеялки, культиваторы, такого добра было много в каждом дворе. И вот мои кубанские казаки, полтавские хлеборобы-колхозники принялись с не меньшим удовольствием, чем я, распахивать немецкую землю.
Проезжающие мимо бойцы или командиры останавливались и спрашивали весело понукивающих в сеялке ездовых:
– Какой колхоз?
– Колхоз «Победа» или колхоз «Смерть Гитлеру», – отшучивались, в свою очередь, бойцы-хлеборобы, уже истосковавшиеся по своим кровным делам, от которых их отняла война.
Никогда раньше, конечно, не думалось и не снилось мне, что в 70 километрах от Берлина придётся заниматься сельским хозяйством, мерить полевым метром посеянные участки в слиянии рек Варты и Одера.
Выходит, в жизни бывает всё, даже то, что и во сне не снилось.
13 апреля
Получил снова письмо от мамы. Спасибо ей, часто пишет, не забывает сына.
Получил письмо от Коти. Пишет, что участвовал в боях, получил орден. Молодец, сынок! Берёг бы только себя…
Поступило приказание от комбата: прекратить посев и прибыть всем в Запциг. Значит, будет наступление.
15 апреля
С пяти часов началась мощная артподготовка. Длилась два часа. Мы ещё ночью переправились на плацдарм и остановились недалеко от переднего края обороны.
Дрожала земля. Тысячи орудий обрушились всей своей мощью на немецкую оборону. Немцы успели кроме старых оборонительных укреплений настроить много новых и с ожесточением смертников отчаянно оборонялись.
Если на фронтах союзников, как пишут в газетах, немцы сдают города «по телефону», ежедневно сдаются в плен по 50–60 тысяч без боя, то здесь с невероятным упорством сдают каждый метр земли. Каждый пройденный километр стоит нам огромных жертв в живой силе и технике.
19 апреля
Передвигаемся с наступающими войсками. Штаб перебрался в лощину возле города Зеелова. Вчера при переезде подверглись жестокой бомбёжке. Забился в воронку, лежу, а кругом беспрерывно летят осколки снарядов, сильно ударило большим комом земли. Когда поднялся, в ушах шумело, плохо стал слышать.
Наши сапёры сопровождают самоходки, разминируют поля.
Правый фланг подвинулся километров на 8–10 вперёд и находится уже в 30 километрах от Берлина, а наш левый фланг – на месте второй уже день. Немец засел в сильно укреплённом месте в трёх километрах от нашего оврага, беспрерывно засыпает минами.
На фронте шириной около трёх километров я насчитал около пятисот подбитых наших танков.
Страшно упорствует здесь, просто невероятно. В плен никого не брали.
Ночью начали подсчитывать наши раны. Только убитых более 20 человек, но точных сведений нет. Многие погибли на самоходках и танках. Некоторые пропали без вести. Быстро тает наш батальон. Выбыли многие старые опытные сапёры, закалённые в боях.
А до победы остался один шаг…
23 апреля
Вчера ворвались в Берлин! Получили по радио благодарность от Сталина.
Остановились в юго-восточной окраине Берлина – Мюнхсдорфе. Почти всё население на месте. Да куда уже им бежать?..
Наш хозяин, старичок лет шестидесяти, со своей старухой и молодой невесткой, за которой сразу же начал ухаживать наш повеса Козулин, относятся к нам доброжелательно, хотя чёрт знает, что у них на душе.
Рассказывают, что вчера их сосед-врач, запуганный «зверствами» русских солдат, отравил себя, жену, двух детей и сестру. Сестра, видимо, приняла яду недостаточно и осталась жива. Наш врач дал ей противоядие, и она очень его благодарила за спасение её жизни.
Окраина почти не разрушена. Домики все красивые, удобные, чистенькие.
30 апреля
25 апреля передвинулись километров на шесть ближе к центру, к месту проходящих боёв.
Несмотря на разрушительный огонь нашей артиллерии, танков и авиации, немцы продолжают упорно сопротивляться, без боя не отдают ни одного квартала. Улицы заминировали, а нижние этажи каменных домов превратили в доты, откуда наносят сильный урон нашим штурмующим войскам.
Часов в 12 дня в штаб пришёл комбат и показал начальнику штаба распоряжение штаба корпуса мобилизовать абсолютно всех наших людей на сопровождение танков и самоходок для разминирования улиц.
Собралось человек двенадцать – часть из хозвзвода, часть – из переправочного парка.
– И ты, старшина, пойдёшь? – обратился ко мне комбат не то с вопросом, не то с приказом.
– Я ведь не лучше и не хуже других, – ответил ему.
Быстро собрались, взяли миноискатели, короткие немецкие ножи-штыки в футлярах, автоматы и в сопровождении комбата перешли несколько улиц.
На одной из улиц стояло с десяток самоходных орудий и несколько танков. Я с Елисеевым сел на самоходку позади орудийной башни. Остальные тоже разместились кто на самоходки, кто на танки.
Через некоторое время танкисты тоже забрались внутрь машин, закрыли люки и мы двинулись к следующему кварталу, где шёл бой.
Переехали по чудом уцелевшему мосту через канал Вильгельма, соединяющий два рукава реки Шпрее, и на одной улице минули три пушки, стрелявшие по направлению домов, где засели немцы, а затем обогнули два наших танка, подорванных на минах.
Впереди самоходки, на которой мы сидели, шёл танк. Проехали ещё метров двести-триста. Передний танк на ходу сделал несколько выстрелов из пушки и остановился, а пулемётчик пускал из танка длинные очереди по окнам стоявших впереди нас домов. Асфальт улицы впереди танка был исковеркан – верный признак установленных мин.
Мы хотели уже слазить и приступить к разминированию, но в этот момент раздался огромной силы взрыв, меня сильно ударило в голову, показалось, что оторвало обе ноги. Меня с силой сбросило на асфальт. Голова как будто бы стала разрываться на части, заходили огромные круги, и я потерял сознание.
Очнулся я в большой комнате на софе. Рядом на кровати и на полу на подушках лежало ещё несколько раненых. Возле них возился какой-то врач, не нашей части.
Подошёл ко мне. У меня из носа, изо рта и немного из ушей выступала кровь. Он что-то говорил, но я ничего почти не слышал. В ушах чувствовал сильную боль и какой-то шум, голова разваливалась, руки и ноги отказались подчиняться, во всём теле чувствовалась боль и какое-то недомогание.
Врач осмотрел меня, потом крикнул мне на ухо:
– Вы слышите меня?
Я кивнул головой.
– Контузия. Постепенно пройдёт, – снова громко проговорил он мне на ухо.
Я не помню сколько пролежал. Вечером наш санинструктор Миша с ездовым забрали меня на бричку и отвезли в дом, расположенный по соседству с домом, в котором поместился наш штаб. Они что-то говорили, но я ничего не разобрал. Положили меня на софу, подложив под голову две подушки.
Миша вытер мне ватой кровь с лица, укрыл одеялом, что-то сказал хозяйке квартиры и ушёл. Позже подошёл врач Мтиолишвили, осмотрел всего, закапал в уши каким-то лекарством, дал таблетки и громко сказал на ухо:
– Ты хорошо отделался, Максимович. У тебя контузия, но не сильная, через неделю поправишься, будешь слышать почти нормально. Могло быть гораздо хуже.
Затем заткнул уши ватой, несколько минут говорил с хозяйкой, иногда кивал в мою сторону головой. Та что-то отвечала ему, и он улыбнулся мне, видно, пожелав мне скорей выздоравливать, и вышел.
Я вскорости уснул.
На другой день проснулся рано. Вошла хозяйка квартиры – немка, лет сорока пяти, вся в чёрном, с печальным усталым лицом, села возле окна, смотрела то в окно, то на меня, наверное, больше часа, и не проронила ни одного слова.
За эти пять дней меня приходили проведать Погосян, Козулин, два раза врач и по несколько раз на день Сако, который приносил мне кушать, чай, рассказывал все новости.
Врач предложил отправить меня в госпиталь, но я категорически отказался, зная уже по опыту, в каких условиях находятся раненые в прифронтовых госпиталях, а самое главное, не хотелось расставаться со своими товарищами, когда, по сути, войне пришёл уже конец.
Первые дни я почти не разбирал, что мне говорил Оганесян, но вчера, а особенно сегодня, я почувствовал себя значительно лучше. Голова уже не кружилась, не так дрожали руки, сам уже мог свободно подниматься, когда громко говорил Оганесян, всё уже мог слышать.
Оганесян, которого все называли просто по имени – Сако, крестьянин из небольшого армянского села возле Еревана. Ему был всего двадцатый год, но он был очень здоровым и очень сильным хлопцем. Когда в Тамбове прибыл с пополнением в наш батальон, говорить по-русски совершенно не мог, хотя был расторопным, смелым парнем. За пять месяцев на Висленском плацдарме я его не только натренировал по русскому языку, но научил даже читать и писать. За это он всегда платил мне своей признательностью.
В Тамбове он был ординарцем у заместителя командира батальона по строевой части капитана Индуашвили. Капитан в трезвом состоянии был очень хорошим человеком и командиром. Но когда напьётся, что с ним часто случалось, становился, как и почти все кавказцы, очень вспыльчивым, придирчивым, грубым, и Сако приходилось расплачиваться за малейшее ослушание. Не раз приходил он в мою штабную комнатку со слезами на глазах и жаловался на своего начальника. К концу пребывания в Тамбове он уже довольно сносно говорил по-русски, и хотя и коверкал слова, но разобрать его уже можно было вполне.
– Зачем он минэ был? Водка не достал. Гдэ мог достать? Еслы я удару этот кулак – смэрт ему.
– Ну ты бы и ударил его, – шутил я.
– Нэт. Сичас застрэлыт мэнэ.
Я его успокаивал, говорил, что скоро поедем на фронт, там он уже не будет драться.
– Ты, знаешь, старшина, у самоходку, на которой ты сидэл, попал фаустпатрон. А знаешь, хто стрелял? Нэмэцкий пацан, лэт питнадцать, из окна. Его Фёдоров замэтыл и хлопнул из автомата. Зараза. Самоходка разбыл.
– А знаешь Джигоева? Убыло тогда осколком. Двух сапёров ранило.
Немного помолчал, потом на его лице появилась приятная улыбка.
– Старшина! Тыбе представыл комбат ко второму ордену. Мынэ – к ордену Славы, буду получать. Начальнык штаба мине говорил.
Я его поздравил с высокой наградой, пожал ему руку.
Он рассказал мне, что наши войска быстро продвигаются к центру города.
– Скоро, скоро Гитлэру будэ капут, – в заключение сказал Сако.
Ночью, при свете огарка свечи я записал ещё дрожащими руками прошедшие за пять последних дней события и крепко уснул.

2 мая
Вчера, 1 мая, переехали в центральную часть города. Остановились в одном большом целом доме на улице Людендорфштрассе. Бои шли на главной улице Унтер-ден-Линден.
Сегодня прекратились выстрелы. Сдался Берлин!
Я чувствую себя сегодня уже довольно хорошо, хожу с палочкой, хотя врач и приказал мне ещё лежать, отдыхать, не волноваться.
Смотрю в окно. Ведут пленных.
Интересно было наблюдать одну картинку: три наших парнишки с автоматами в руках во главе с таким же безусым лейтенантом вели группу пленных генералов и адмирала.
В Берлине пленные немецкие генералы! Свершилось то, чего мы так долго ждали.
3 мая
На улицы повылазили жители. Детей очень мало, видно, эвакуировали их до нашего прихода в другие города и сёла.
Войска других соединений пошли дальше на запад, на Эльбу, добивать врага. Наш корпус остался в Берлине.

7 мая
Наш корпус и батальон переехал на южную окраину Берлина. Гарнизоном в Берлине будет стоять 5-я Ударная армия под командованием генерала армии Берзарина.
Наш батальон, приведя себя в полный порядок, со знамёнами и командирами впереди под звуки баяна и дружные песни чётко шагал в этот солнечный день по главной улице немецкой столицы – Унтер-ден-Линден. Я завидовал им. Мне тоже хотелось быть в строю вместе с ними, но был ещё слаб и ехал позади на машине.
Берлин – большой город, диаметром больше тридцати километров. Проезжая по улицам, видишь одну и ту же картину – большие разрушения. До чего же крепко поработала американская и английская авиации. Разрушен не весь город – одни районы уничтожены почти полностью; другие же районы и кварталы только повреждены уже нашей артиллерией при штурме города.
Дома большей частью одинаковые – серые, пятиэтажные. Имеются и с большим количеством этажей, более новой постройки, но таких немного.
Переехав в южную часть города, мы расположились в богатых домах, не тронутых бомбёжкой.
Мягкие диваны с большим количеством подушек, никелированные кровати, ковры, множество цветов – в такую обстановку мы попали после четырёх лет окопной жизни.
Батальон почти не занимается, приводит в порядок себя и своё имущество. Очень много ликёров, вина, коньяка, что ребята достали в подвалах богатых домов, брошенных немцами.
Чувствую себя уже почти нормально, но твёрдо ещё писать не могу и потому днями ничего не делаю.
9 мая
День Победы!
Рано утром узнали о полной капитуляции Германской армии.
Сколько радости! Сколько ликования!
Не верилось, что война окончилась. Не прошли даром наши труды, страдания, переживания, невзгоды. Недаром пролита кровь наших близких, наших товарищей.
И в этот великий праздник мы вспомним о них, которым не повезло, которые не дожили до этого счастливого, радостного дня.
А день – 9 мая – действительно был на редкость ясный.
Батальон, правда, сильно поредевший, выстроился на улице в тени огромных каштанов. Комбат прочитал приказ Верховного Командующего т. Сталина. Громким, несмолкаемым «Ура!» дружно ответили бойцы и командиры. Раздался многократный салют из винтовок, автоматов, пистолетов, из всякого оружия, у кого что было. Долгое время слышна была по городу пальба из пулемётов, винтовок, из многочисленных орудий. Армия ликовала. Ликует, знаем, весь советский народ. Радуются народы почти всего мира. Даже и немцы, и те, видно, довольны, что окончилась война, что им нечего теперь бояться налётов авиации.
Знаю, радуются в этот день где-то далеко-далеко отсюда мои родные, моя семья, мои дети.
Беспокоюсь только за Котю, жив ли он остался, мой вояка…
В 12 часов в брошенном хозяином ресторане устроен общий обед для батальона. На каждого выдано по 200 грамм водки. К этому количеству у каждого было неограниченное количество своих трофейных запасов.
Когда торжествовал батальон, длинная очередь немок и немцев стояла у дверей ресторана, ожидая, что останется от обеда. Не очень они радостно смотрели на наше веселье. Чёрт с вами. Пришёл и на нашу улицу праздник. Вы, наверное, все радовались, когда мы, измученные, голодные, без воды, отступали на восток в 1942 году.
Надо сказать, однако, что наш повар в этот день не жалел и для них насыпать полные котелки жирного супа.
14 мая
Наш корпус, а с ним и наш батальон и вся наша 8-я гвардейская армия передислоцировались в городок Вюнсдорф, в 40 километрах южнее Берлина. Километрах в десяти от Берлина, когда мы переезжали в Вюнсдорф, увидели ровное большое поле, покрытое жёлтой глиной, почти не заросшее травой. На всём поле было только несколько маленьких домиков и огромное количество высоких радиомачт. Нам сказали, что здесь под землёй находится целый городок – главная военная ставка Гитлера.
Вюнсдорф оказался небольшим, но замечательным городком. Рядом большое полноводное озеро, красивый лес, сады. Всё в цвету. Зацвела сирень. Прилетели соловьи.
И стало больше тянуть домой.
Домики большей частью дачного типа, очень красивые. И немцы здесь жили, в основном, богатые.
Штаб разместился в одном домике, где жили две молодые хозяйки без мужей. Им пришлось потесниться, так как мы – я, Козулин и Антрохин – заняли по отдельной комнате. И Козулин, и Антрохин – парни молодые, сразу же стали ухаживать за хозяйками, а я больше ходил по окрестностям, любовался красивой весенней природой.

19 мая
Сегодня мы с Козулиным усиленно работали, писали реляции на награждения правительственными наградами личного состава батальона, на повышение в звании командиров.
Вдруг увидели, что к нашему дому подъехало много легковых автомобилей. Мы довольно переполошились, когда увидели, что из автомашин вышло человек пять генералов и полковников. Все они весело разговаривали, смеялись, шутили. Посмотрели на наш окружённый яркими цветами домик и зашли в штабную комнату.
Впереди шёл генерал армии, в котором мы сразу узнали Героя Сталинграда и Берлина командующего нашей армией Чуйкова.
Я так растерялся этим неожиданным посещением, что даже не отдал рапорта, за что после себя очень ругал.
– Это что, штаб, наверное, сапёров? – обратился он ко мне.
– Так точно, товарищ генерал армии, штаб 926-го отдельного корпусного сапёрного батальона, – довольно смело ответил ему.
Затем, они прошли посмотреть две или три комнаты. В комнате, которую занимали немки, увидели женские платья, пальто, шляпки.
– О! Да здесь женским духом пахнет, – засмеялся Чуйков, а вместе с ним и другие генералы.
– Нет, этот домик не подходит, поищем лучший, – сказал Чуйков.
И этот знаменитый полководец, герой Отечественной войны, о котором ходили всё время разговоры, как о человеке требовательном, жестоком, который беспощадно расправлялся своей палкой с провинившимися офицерами, боявшимися его, как огня, этот генерал теперь смеялся, шутил, попросту говорил с нами. Среднего роста, русый, очень плотный, с утомлённым лицом, с чертами человека необыкновенно волевого характера.
Они перешли улицу и направились в соседний дом, напротив нашего.
Потом мы узнали, что они выбирали дома для штаба армии и для своих квартир.
20 мая
Всю улицу, которую мы занимали, пришлось уступить нашему начальству. Сапёры перебрались в какое-то большое деревянное помещение, а мы заняли одну небольшую комнату, тоже хорошую и богато обставленную.
Начались другие порядки, стали укреплять пошатнувшуюся дисциплину. Тяжело это после «свободной» жизни. Всё уже это всем надоело. Всем хочется домой.
25 мая
Получил письмо от Коти от 5 мая. Он тоже здоров, находится в запасном полку.
Тоня пишет, что получила три посылки. Добрэ.
1 июня
Снова наш батальон переехал в Берлин. Остановились в районе Темпельгоф. Район промышленный, главным образом, лёгкая промышленность.
Перед нашим батальоном поставлена задача демонтировать самую большую в Берлине шоколадную фабрику «Саротти». Предстоит огромная работа.
Фабрика имеет пять этажей и два этажа подвальных, занимает несколько гектаров. Прекрасно оборудована, имеет более десяти больших лифтов, что намного облегчило задачу спускать на землю тяжёлые станки, котлы, вспомогательные транспортёры и многое другое. Часть фабрики уже работала, когда мы приехали, и эту часть командование решило не трогать. Хотя готовую продукцию уже успели растащить, но досталось и нам ещё порядочно шоколада, мёду, разного кондитерского сырья, за которое мы меняли у немцев часы, бритвы и пр.
Разместился наш батальон в одном огромном доме, где жили в основном рабочие, служащие, словом, трудовой народ. Не всем им жилось сладко при Гитлере, некоторые из них не разделяли его захватнической политики, и это всё до некоторой степени послужило причиной сближения с ними. Во всяком случае, они тоже были люди, и, хотя в первые дни они и боялись нас, но постепенно привыкли.
Начальник штаба Шувалов откомандирован в Москву в военную академию. Жалко было расставаться с этим замечательным человеком. Всегда был весёлый, любил пошутить, весьма культурный, всегда очень хорошо ко всем относился, пользовался всеобщим уважением. Пожелал ему самого лучшего в его будущей жизни.
На место Шувалова начальником штаба назначен Погосян, получивший звание капитана, а адъютантом назначен приехавший с военных курсов младший лейтенант Шведов, бывший у меня помощником.
15 июня
Получил распоряжение подготовить именные списки для демобилизации рождения 1905 года и старше.
Наконец-то скоро уедем.
Как рады все, попавшие в эти списки. Солдаты не дают проходу: «Когда же, когда уедем?»
18 июня
Утром получили приказ переехать в город Фрейбург, в 250 километрах на юг от Берлина, за городом Дрезден.
Первыми выехала только штабная автомашина – я, Погосян, Шведов, Козулин и четыре сапёра. Ехали всё время автострадой. Автострада – две рядом идущие бетонированные дороги. По одной дороге машины идут в одну сторону, по другой – в другую. Автострада на всём пути от Берлина до Дрездена (больше 200 километров) нигде не пересекается другими дорогами. Дороги, которые перекрещиваются с автострадой, проходят по мостам, перекинутым через автостраду. Дорога ровная, без крутых поворотов, нигде не проходит через сёла или города. Всё это даёт возможность развивать любую скорость, не боясь встречных и пересекающих автомашин. При таких условиях сведена до минимума возможность аварий.
Таких бы дорог нам побольше.

После обеда уже были в Дрездене. Огромный город, расположенный в широкой долине реки Эльбы. В нём были старинные красивые дома, большие фабрики и заводы, но американская авиация мало что оставила в целости, и теперь этот старинный исторический промышленный город превращён в груду развалин. Остался только небольшой процент целых, нетронутых зданий.
В Дрездене передохнули, закусили, выпили пива и, переехав по мосту Эльбу, отправились дальше.
Эльба – полноводная река, проходит с юга на север по всей центральной Германии. Возле Дрездена окаймлена гранитными берегами.
За Дрезденом местность становилась всё более и более холмистой. По очень высоким каменным мостам пересекаем глубокие балки и овраги. Все дороги обсажены фруктовыми деревьями. По дорогам часто встречаются бензиновые колонки, сейчас, правда, бездействующие.
Во Фрейбург приехали уже под вечер. Разместились в больших военных казармах, расположенных возле города.
Стены казарм исписаны на немецком языке всякими шовинистическими гитлеровскими лозунгами. В большинстве комнат стояли кровати с матрацами и постельным бельём. Немного хуже, чем в немецких квартирах, ну да ничего – жить можно.
Сюда должен переехать и штаб нашего корпуса.
Город Фрейбург не очень большой, войной совсем не затронут. Расположен в 20 километрах от Чехословацкой границы.
24 июня
Ходили фотографироваться несколько раз в немецкую фотографию. Осмотрели достопримечательности города. Обменял на сахар и шоколад хорошие часы. Купил с рук у одного немца новый итальянский плащ.
О демобилизации пока определённых сведений нет.
Возле казармы проходит широкая асфальтированная дорога от Чехословацкой границы, из Судетов. И вот, по этой дороге через несколько дней после нашего приезда потянулись почти беспрерывной вереницей подводы, фургоны, старые автомашины и просто ручные колясочки, на которых везли детей, домашние вещи. Это двигались из Судетской области Чехословакии выгнанные оттуда немцы.
Печальные, нахмуренные, не знающие, где им теперь жить, шли они на север, в Германию. И мне вспомнился сорок первый и сорок второй годы, когда так же, понурив головы, печальные, голодные, бросив всё своё добро, на повозках, а часто пешком двигались на восток, убегая от фашистской нечисти, от сынов и отцов этих немцев, наши беженцы – русские, украинцы, белорусы.
Что посеяли, то и пожали. Час расплаты пришёл. Пусть ваши дети и внуки помнят и никогда пусть не забывают о сделанных вами злодеяниях.
4 июля, вечер
Вчера наш батальон, штаб корпуса и все дивизии выехали на запад на 90 километров от Фрейбурга, на окончательную границу, установленную по Ялтинскому соглашению между нашими оккупационными границами и границами союзников.
Недавно получили приказ о демобилизации (на основании закона Верховного Совета от 23 июня 1945 года). Демобилизации подлежали бойцы 1905 года рождения и старше. Всего из нашего батальона около 60 человек, главным образом, нестроевые. Попал в этот список и я. Наконец-то, дождались.
Все подлежащие демобилизации остаются во Фрейбурге, а на границу выехали все те, кому очередь ещё не подошла.
Тепло прощались с товарищами, которые помоложе нас, они остаются в Германии в оккупационной группе войск.
Четыре года были вместе. Сколько было перенесено вместе всяких тягот военной жизни! Жили одной дружной семьёй, одними интересами, делились иногда последним кусочком сухаря, последним глотком воды.
До чего же грустно было расставаться с дорогими боевыми друзьями…
После их отъезда на душе образовалась какая-то пустота. И ещё больше потянуло домой, на Родину.
От нечего делать ходил по городу, зашёл в кино, в магазин. Там всё пусто или попрятано, а если что и есть, то меняют только за продукты, а наших оккупационных марок не хотят брать.
Выменял себе велосипед.
5 июля
Сегодня последний день во Фрейбурге. Завтра утром едем в запасной полк в город Дрезден, где будем формироваться по командам (по областям) и отправляться на Родину.
Но беда в том, что железнодорожный транспорт перегружен (ведь нас сотни тысяч), и ходят слухи, что до Украины, т.е. более тысячи километров, придётся передвигаться гужевым транспортом, вернее, пешком. Меня от этого, да и других, ужас берёт. Снова придётся столько мучиться! Да и кому и зачем это нужно…
Погода гнилая, целый день моросит противный дождик. Хорошо хоть купил себе плащ.
24 июля
Город Морицбург, в десяти километрах от Дрездена. Уже 20 дней живём на сборном пункте, где формируются эшелоны с демобилизованными для отправки на Родину.
Никогда не предполагал, что придётся так долго здесь ожидать очереди.
То говорят, что не оформлены, то вагонов нет, то всем подарки ещё не выданы, то, чёрт знает, ещё что-нибудь. Во всяком случае, уже так осточертело нудиться, валяться на нарах, зная, что проходит лето, что каждый нужен дома в семье.
Меня назначили старшиной роты, в которой около 800 человек, поэтому у меня часть времени занята служебным делом, урегулированием всяких вопросов, а иногда и споров, но зато кажется, что время проходит скорей. Вышло так, что наша область едет почти в последнюю очередь.

Живём в старинном охотничьем замке саксонских королей.
Посреди большого озера, окаймлённого с трёх сторон лесом, остров, а на нём высокий, монументальный, серого гранита замок. В лесах и сейчас ещё встречается много диких коз, а один раз я видел оленя.
В замке очень много комнат, больших и малых, светлых и тёплых, много коридоров, лестниц, глубокие тёмные подвалы. В комнатах всё сохранилось, запретили что-либо трогать. Большая библиотека с новыми и старинными книгами, но все они в одинаковых коричневых кожаных переплётах. На стенах большое количество картин, большей частью старых, потемневших, изображающих многие династии немецких королей, обычно с собаками, иногда на лошадях; картины, изображающие эпизоды охоты. Много чучел медведей, огромных кабанов, лосей, оленей и других зверей. Большинство стен украшено оленьими рогами. Но самое интересное в этом замке – огромный высокий зал в центре, с полом из каменных плит, укрытыми коврами. Картин в нём нет. Несколько красивых старинных каминов, большие столы, дубовые массивные стулья. Все стены этого зала увешаны большими рогами лосей, а в центре – огромные окаменелые рога в размахе более трёх метров. Все эти рога – трофеи королей, князей, баронов.
Получилось так, что запорожцев из нашего батальона никого не осталось. Большинство было с Кавказа, из других областей, и теперь приходилось иметь дело с новыми людьми, прибывшими в запасной полк из других дивизий и полков. Связь со своими однополчанами теперь потерял окончательно.
Часто идут дожди, сыро, пахнет гнилью.
Моя рота сначала жила в самом замке, а потом перешли в парк, в построенные из досок шалаши. Каждый день пропускают одни и те же кинофильмы.
Сижу сегодня в главном зале, превращённом нами в клуб, заполняю свой дневник. Когда-то здесь пировали после удачной охоты короли, древние рыцари. Думали ли стены этого замка, что в 1945-м году какой-то русский солдат будет читать газеты, писать письма, мечтать, когда же, наконец, навсегда покинет эту осточертелую Германию и вернётся домой, на берег Днепра, в свою семью…
27 июля
Наконец-то подошла и наша очередь!
Проверили по несколько раз, все ли имеются документы, все ли получили подарки. На дорогу каждому выдали на две недели сухой паёк.
Всё приготовлено, всё сложено, упаковано.
Под вечер сложили на подводы все вещи, а сами строем вышли к ближайшей станции, находившейся километрах в десяти от Морицбурга.
Настроение у всех было весёлое, приподнятое.
Вагонов было очень мало. В теплушку должно было поместиться до 50 человек, а учитывая, что у большинства было много вещей, это создаст-таки давку.
Выделили людей: по несколько человек для погрузки в вагоны вещей, а для больных, чтобы не скучали, устроили концерт.
Я только помню одну цыганку, которая в бешеном танце кружилась с бубном в руках, приводя в восторг покончивших с войной солдат.
Утром были в Берлине. Здесь почему-то снова выгрузили нас на окраине города, и снова ожидали под открытым небом два дня.
1 августа
Позавчера вечером снова погрузились в вагоны. Говорят, что теперь уже повезут каждого кому куда нужно.
Вчера вечером проехали город Франкфурт-на-Одере. Переехали по временному мосту через Одер.
Здесь в свежей памяти мне обрисовались весенние дни недавнего минувшего. И село Запциг, где мы стояли больше двух месяцев, и весенняя посевная на немецкой земле, и жестокие бои на Одерском плацдарме, и дорогие товарищи, с кем навсегда пришлось проститься.

3 августа
Едем по польской земле. Кругом большей частью леса, болота. Возле железнодорожной линии во многих местах через каждые сто-двести метров стоят наши бойцы.
На одной станции, где мы долго стояли, нам сказали, что первый эшелон с демобилизованными был подорван и теперь пути охраняются нашими войсками.
Сегодня прибыли в Варшаву. Огромный город, но весь разрушен немцами во время восстания поляков и своего отступления.
Переехали через Вислу.
5 августа
Переехали Буг. Вот и Советская граница, вот и Советская земля!
Мимо вагонов прошли пограничники, спросили для формальности, нет ли среди нас посторонних, переменили паровоз, и наш поезд снова тронулся на восток, уже по белорусской земле.
Кончаю на этом свой дневник.
Перелистывая его, я припоминал много событий, которые мне не удалось записать. Не записал я и про боевую жизнь отдельных товарищей. Но когда его писал, я не думал, что мне удастся его закончить и пронести с собой через четыре года войны, через большие и малые бои, через многие тысячи километров пройденных военных дорог, где много раз смерть смотрела мне в глаза.
Я очень доволен, что мне, хотя и в таком виде, удалось его закончить, пройдя через всю войну.
Может быть, пройдут годы, загляну в него, и в моей памяти снова всплывут суровые картины Великой Отечественной войны, вспомню своих боевых товарищей-однополчан и скажу, что и мы непраздно век прожили.
Конец.

